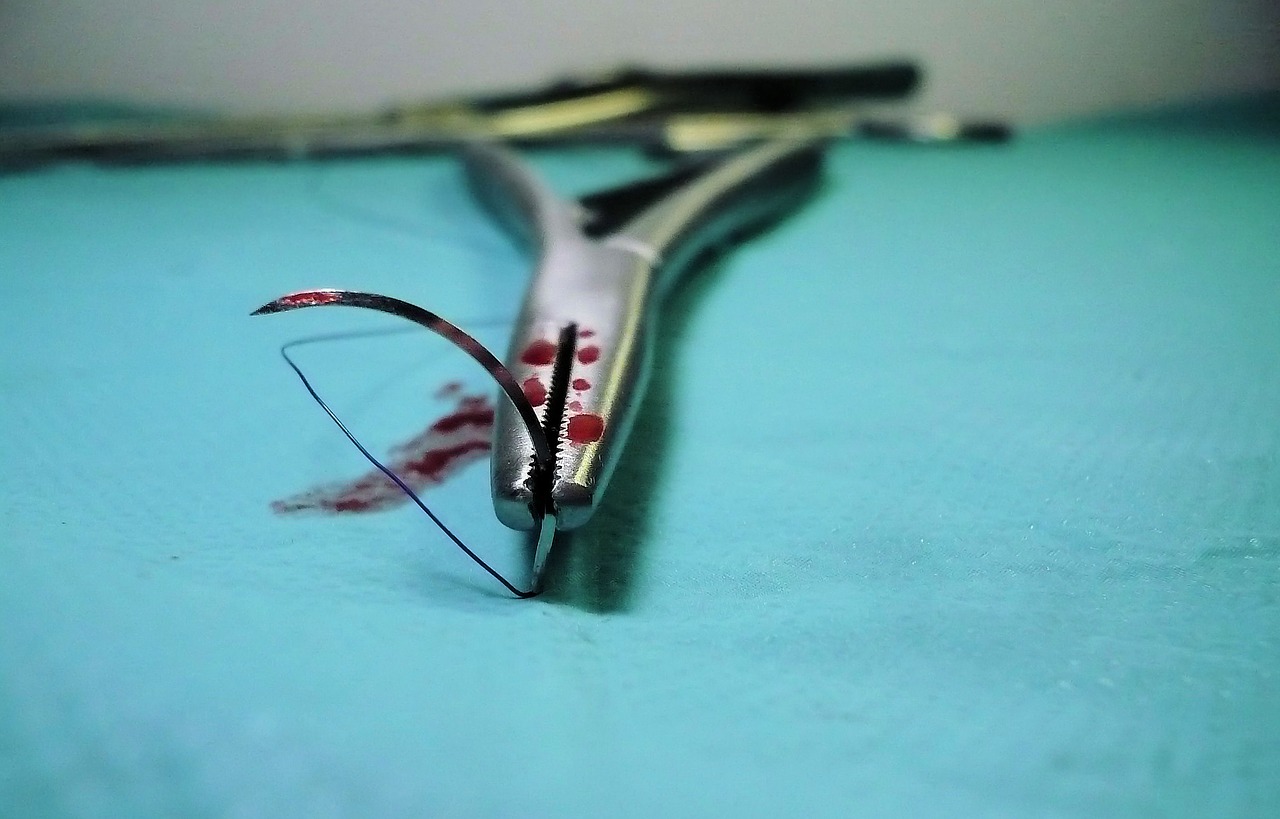Итак, мы зашли в баню. Купили, как положено, билеты, и кассирша повела нас куда-то в глубь пустого, гулкого здания, но неожиданно провела насквозь и вывела на заваленный всяким хламом двор, огороженный высоким деревянным забором. Посреди двора лежал облупленный несгораемый шкаф. Она подвела нас к длинному дощатому сараю с множеством дверей, похожему на общественную уборную на какой-нибудь захудалой железнодорожной станции, но гораздо более длинную. Двери вели в узкие душевые кабины с земляным полом. Мы выбрали соседние кабины, чтобы через дырку передавать друг другу мыло. Мочалок у нас не было, и мы намыливались трусами. Кассирша ушла, и нас в сарае осталось, как позже выяснилось, пятеро. По соседству с нами мылись еще трое парней. Мы их потом видели, когда они выходили. Так наслаждаться водой могли только жители густыми. Незнание языка помешало нам получить какую-нибудь информацию, кроме чисто интонационной. Но, может быть, это был и не какой-то определенный язык, а просто язык чувств или даже ощущений: стоны, охи, взвизги, что-то вроде смеха и т. д., и все это исполненное то соло, то дуэтом, то трио, с разнообразными партиями и сложным контрапунктом.
Помывшись, мы выстирали кое-что из наших вещей и ждали во дворе, пока они высохнут. Высохли они как-то противоестественно быстро, а пока я присел к несгораемому шкафу и написал тебе письмо, держа руку на весу: шкаф был раскален, как кухонная плита. От прикосновений к нему кожа краснела, будто при настоящем ожоге.
Я мог бы рассказать тебе, как искал почтовый ящик и как все мне указывали в разные стороны, как я пошел прямо в почтовое отделение, но оно было заперто, хотя до конца рабочего дня оставалось часа полтора, как я присел на крыльцо отдохнуть, как подошел парень с посылочным ящиком, дернул дверь и выругался: Узбекистон, так их мать! — мог бы рассказать, но я и так отвлекся. Вернусь в нашу новую баню, оставшуюся далеко на северо-западе.
О ее экстерьере я уже говорил, но интерьер был еще великолепнее. Удивительным был уже теплый пол в предбаннике, по которому было приятно ходить босиком. Потом эту систему отключили: в ней что-то нарушилось, когда ее заливали бетоном и «лихорадничали» вибратором. В моечном отделении у каждой покрытой пластиком скамьи, на которой намыленному усидеть чрезвычайно трудно — непременно съедешь, имелись краны с горячей и холодной водой и душ, так что не надо было куда-то таскаться с шайкой и стоять там в очереди. Теперь, правда, некоторые краны уже сломаны неизвестными душегубами, но далеко не все. Однако самым поразительным было следующее: из моечного зала выходили две двери, на одной из которых было написано «Русская парильня», а на другой — «Ирландская парильня». Это наводило на размышления о том, насколько у разных народов могут разниться вещи, имеющие в себе достаточно общего, чтобы носить единое название: в «Русской парильне» стояла страшная жара, а в «Ирландской» — не менее страшный холод. Да, оба эти народа по-своему могучи, но из-за многовековой привычки к собственному способу самоистязания в «Ирландской парильне» никто из парящихся не высиживал и полуминуты; пожалуй, туда и заходили-то больше из этнографического интереса. Но так как удовлетворение этнографического интереса было для непривычного населения сопряжено с опасностью простудных заболеваний, то администрация бани вскоре повесила на «Ирландскую парильню» замок и, видимо, навсегда.
А в «Русской парильне», повторяю, стояла невыносимая жара, когда обжигают руку собственные волосы и опаляет собственное дыхание. И все из-за того, что какой-нибудь удалец, не страшась своего позорного бегства две минуты спустя, предлагал: «А ничего — я подброшу?», а другие, хотя и так были еле живы, из гордости не возражали. И удалец поддавал. И ради великолепия этой минуты он был согласен снести позор своего последующего бегства. Впрочем, сбегали все, но он-то одним из первых.
Две лампочки, покрытые измазанными чем-то коричневым стеклянными колпаками, придавали раскаленным телам резкую мускулистость, подчеркивая обычно скрытые под одеждой изъяны. Однажды мне все это вдруг напомнило сонм грешников из «Страшного суда» Микеланджело: такие же скорченные бесстыдные позы, задранные ноги, выгнутые спины, вывернутые за спину руки (с вениками), к тому же фигуры не были испорчены драпировкой. Голоса сливались в ровный гул, из которого вырывались восклицания вроде: «Эх, ноги кверху — по-сибирски!» Но основное настроение создавалось все-таки температурным и водным режимом, какого не потерпит ни один музей и даже сама Сикстинская капелла. Некоторые, хотя и ненадолго, старались взобраться повыше: на скамейки, на перила полка, словно в каюте погружающегося в морскую пучину парохода.
Однако и новая баня, несмотря на весь свой модерн, обладала главным свойством всех бань: она создавала атмосферу взаимного доброжелательства и непринужденности с их верной сестрой — фамильярностью. После похолодания пола все дружно сошлись на том, что винить некого: сами строили, сами принимали и сами себя бьем. Никто не ворчал. Встречаясь в бане со знакомыми, с которыми обычно едва киваем друг другу, мы так приветливо здороваемся, что каждый из нас едва удерживается, чтобы не пересесть поближе. Знакомые обращаются друг к другу обязательно шутливым тоном, иногда явно наигранным, однако наигранность эта означает лишь то, что они понимают, как нужно вести себя в бане, только им это плохо удается. Впрочем, за старание им охотно прощают неестественность. В бане, особенно в предбаннике, завязываются почти родственные беседы; кто-нибудь что-нибудь рассказывает, обычно полушутливое, и всякий может вставить замечание. Помню, один молодой мужчина рассказывал, как весной на его глазах в заливе утонул рыболов, легкомысленно понадеявшийся на прочность льда. Душивший его смех часто прерывал рассказ, но он быстро с ним справлялся и продолжал. И все отнеслись к нему очень мягко и терпимо: было ясно, что человек хотел сделать нам приятное и не его вина, если он не нашел лучшего способа. Сосед может вдруг рассказать, какие бревна он в молодости носил без отдыха за три километра, и показать такую толщину, что для внесения в рассказ правдоподобия приходилось мысленно приписывать этим бревнам длину сантиметров этак в сорок, — но все лишь удивленно качают головами и восхищенно ахают. Можно заметить отцу по поводу его сходства с сыном: «Чистая работа», и он с удовольствием улыбнется. Даже банщик, увлеченный общим потоком дружелюбия, говорит какому-нибудь неряхе: «Ты зачем газету оставил? Мне не надо, я неграмотный».
Если не все, то почти все используют один из древнейших и вернейших способов выразить расположение к собеседнику — смеяться его шуткам, которые тоже если и не смешат, то выражают доброжелательство — пусть даже оно выражается в том, что вместо спины начинают намыливать другую часть тела, расположенную несколько ниже. Видимо, все здесь уверены в уважении других, так как никто не обижается на шутки. Особенно приятно видеть взаимную вежливость голых людей, как они обращаются на «вы», уступают дорогу и прочее, вежливость, направленную непосредственно к адресату, а не к его мундиру. Здесь сущность вежливости является нам обнаженной, как и ее носители, и нагота ее прекрасна.
Но, может быть, здесь важнее другое. Общаясь между собой, люди условились не открывать друг другу известных сторон своего тела и души; принимают же тебя целиком, со всем, что есть у тебя в организме и характере, лишь самые близкие люди. Банное же доброжелательство показывает, что здесь тебя принимают если и не целиком, то все же в большей степени, чем где бы то ни было, исключая разве что больницу.
Мне всегда казалось, что отказ потереть в бане спину похож на предательство. По правде говоря, я был изгнан из банного рая при коммунотделе, где мирно соседствуют львы и лани, хамоватым парнем, отказавшимся намылить мне спину. Да еще понимающе ухмыльнувшимся при этом: на меня, мол, где сядешь, там и слезешь. С тех пор я, не решаясь беспокоить окружающих, ухитряюсь мылиться сам, поэтому прочие видят во мне чужака и тоже не обращаются с просьбами. А как бы охотно я их выполнил! Но недавно я решился указать соседу по лавке, что над ним проходит чугунная труба, с которой падают холодные капли, заставляя подскакивать сидящих внизу, и его благодарная улыбка придала мне сил и надежд. Возможно, и я когда-нибудь стану своим среди этих уверенных сильных мужчин, разбирающихся в плотничных и бетонных работах, а также и в расценках, что ничуть не менее мужественно.
В бане, помимо прочего, следишь за своим весом, поскольку там обычно имеются медицинские весы, а также наблюдаешь за необратимыми изменениями в якобы принадлежащем тебе теле, за появлением отвислостей, одряблостей и знаешь, что их уже не уберешь двухнедельной тренировкой. Именно в бане я впервые заметил на внутренней стороне своей стопы сетку ало-фиолетовых сосудов, которую всегда считал принадлежностью старости.
Что же будет, когда у всех будут квартиры со всеми удобствами? Неужели исчезнет баня, это учреждение, столь способствующее любовному единению людей, как выражался Лев Толстой, — учреждение, ведущее свою родословную от римских терм? Неужели древний обряд омовения превратится в простую гигиеническую процедуру, совершаемую в глубоком уединении, как нечто постыдное?
Но, кажется, я, потеряв контроль над собой, готов впасть в тон нынешних пророков — имя же им легион,— утверждающих, что все наши этические проблемы возникли из-за того, что мы слишком хорошо живем. Того и гляди сейчас возглашу: «Долой все удобства!» Видимо, этот тезис является в каком-то смысле самой низкой точкой среди наших размышлений об этом предмете, поскольку все догадки скатываются именно туда, если их предоставить самим себе. Ведь я и сам не отказался бы от квартиры с упомянутыми всеми (абсолютно всеми!) удобствами, хотя сейчас утешаюсь тем, что ко мне не относится «Вам!» Маяковского, ибо оно обращено к «имеющим ванну и теплый клозет». Добавлю также, что даже баня не способна вполне уничтожить дисгармонию в человеческих отношениях, а разве лишь временно ее сгладить.
Вот неединичный пример: раздевающийся худой старик в трусах странного покроя — своеобразном передничке — окликнул (конечно же, шутливо) уже выходящего полного: «Ты чего к нам приехал? Вам же роскошную баню построили?» А тот, в ватнике, с клочковатым румянцем, какой остается после равномерной багровости, охотно улыбается: «Это как, знаешь, бывает, что жена дома, а идешь к соседке». И уже серьезно поясняет: «Не умеют ни хрена. Печь выложили без опояски — вот и расселась. Тоже и поддавать не умеют. Пэтэушники, шпана, набьются и кидают холодной водой. Ну — ребятёшки». Худой все подначивает: «А ты дома мойся. И денег меньше потратишь». Второй отвечает уже совсем всерьез, даже задушевно: «Ничего, на баню хватит. Пенсию-то, правду надо сказать, дали нам не то что отцам-матерям. То, помнишь, по двенадцать рублей давали, вот куда хошь, туда и трать. А то еще скажут: колхозник. Нет, нам жить можно». Первый, видно, уже никак не могущий сойти со взятого тона: «А теперь и на водку хватает?» — «Когда и выпью. Можно жить. Но тоже много неправильно делается. Вот, к примеру, зачем плотят пенсию по триста рублей? Сто двадцать — это уж вот так! — провел ребром ладони по горлу. — А то еще во время войны многие документы теряли, стаж пропал. Это как?» — и стал рассказывать, как это случилось у него. Худой уже серьезно поддакивал.
Тут подошел банщик, их общий знакомый, тоже на вид пенсионер, и стал шутя выталкивать полного: «Иди, иди. Надо уметь зарабатывать. Мы с тобой не умеем зарабатывать, вот и сидим». А когда тот ушел, сказал худому, уже без улыбки: «У него денег на две «Волги» хватит». Худой, поразмыслив, ответил: «Нет, и на одну не хватит. Вот на мотоцикл — это да, мотоцикл может. А «Волгу» нет». Но банщик, начиная даже горячиться, принялся доказывать, какие у полного доходы: и яблоками торгует, и с родной дочери деньги за квартиру берет и т.д., и т.д. А уж как на дармовщину любит выпить — и говорить нечего. Худой слушал и соглашался: да, мол, скупердяй, в могилу, что ли, собирается брать? Даже раздеваться перестал и все сокрушенно покачивал головой.
Ослепленный схемой, я забыл о множестве мелких, но совершенно несовместимых с идиллией банных эпизодов. Забыл даже, как совсем недавно из «Русской парильни» вынесли пьяного, которому сделалось дурно, и положили прямо на цементный пол, который, если разобраться, не такой уж теплый, хотя с недавнего времени его снова подогревают. Пьяный лежал, глядя в потолок серыми белками закатившихся глаз, а все сидели, ходили, посмеивались, как будто ничего особенного не произошло, и банщик минут двадцать шел к нему с нашатырным спиртом, останавливаясь, чтобы перекинуться шуткой с каждым знакомым. А знакомы ему практически все. Правда, все кончилось хорошо. Пьяный очухался и, бормоча: «Я человек простой: мне набьют морду — и я набью», пошел допариваться. Может быть, все, кроме меня, знали это заранее? Да что! Мне ли настаивать, что баня — просто-таки живой уголок Золотого века, когда у меня самого однажды украли в бане часы.
Да, баня тоже не всемогуща, тем более что она в ее теперешнем состоянии не может создать даже и эфемерной атмосферы дружелюбия между лицами различных полов.
А что станет с баней в будущем — гадать, видимо, бесполезно. В российской провинции ей пока еще ничего не угрожает, а предвидеть, какой она сделается через несколько веков, — выше человеческих сил, как, вероятно, невозможно было предвидеть, что столь сходные по своей сути явления, как ирландская и русская парильня, выльются в такие прямо противоположные формы.
Однако пора кончать, тем более что возвращаются наши с телевизора. Какие команды играли и с каким счетом, сообщать не буду, поскольку ты все равно это узнаешь, даже против воли. Привет семье.
До свидания. Юрий».
Продолжение следует…