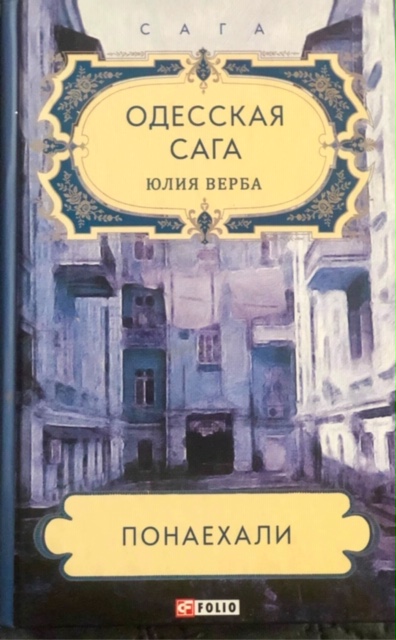«Здравствуй, Слава! Извини за долгое молчание: некогда было, как бывает всегда, когда лень за что-то. Эту истину ты внушил мне еще в те времена, когда был не просто моим старшим братом, то есть субъектом, несколькими годами меня постарше и находящимся со мной в определенном отношении родства, а Старшим Братом в том значении, какое любят придавать этим словам авторы книг о подростках. Но сейчас наши ушли смотреть по телевизору хоккей (я все-таки держусь и телевизора не покупаю, хотя теща не раз намекала на мою отсталость), сижу один — все условия налицо.
Жизнь у нас идет размеренно: в будни бросаю на каменистую почву нашего поселка семена разумного, доброго, а также, разумеется, и вечного — ходовых сортов (в основном идет «теорема Пифагора» и «квадратный трехчлен»), почерпнутых из обветшавших мешков алгебры и геометрии (впрочем, занимаюсь также популяризацией, или вульгаризацией, что часто одно и тоже, некоторых научных идей, имевших хождение в мое время— лет десять назад). Всю неделю пачкаемся, а по субботам ходим в баню, как на исповедь.
Кстати, у нас построили совершенно изумительную (то есть выходящую из ума, за его пределы) баню, похожую на здание некоего ультрасовременного аэропорта (авиация — элегантнейшая из наших служб). И даже несколько сосен перед фасадом оставили для врастания в пейзаж. На фоне домов барачного типа, не редких в нашем поселке городского типа, баня выглядит каким-то аванпостом прогресса. Все же чувствуется близость к Ленинграду. Такое индустриальное великолепие просто неловко называть столь простым и даже грубоватым именем — баня, это все равно что начальника военизированной охраны обозвать сторожем; невольно хочется хотя бы перевести ее название на латынь, как это делают медики, чтобы облагородить и, так сказать, легализовать простое русское слово. И банщики там стали несравненно внушительнее. Дядя Леня из старой бани куда-то исчез, а вместо него появились два старичка, которые в первый миг показались мне чрезвычайно благородной внешности, чуть ли не в пенсне; видеть их банщиками было так же странно, как болонку на цепи и в конуре. Теперь-то я не вижу в них ничего особенного; видимо, эффект создавался окружением, как всякий эффект такого рода. Вечером за их полированным столом выстраивается шеренга, дублирующая витрину винного отдела нашего гастронома, за вычетом коньяка и шампанского.
Находятся, однако, хулители, утверждающие, что в старой бане был лучший пар, но мне понять это не дано. Вот что в старой бане было тесно и сквозило — это да, не говоря уже о сложных перерывах и о том, что туда допускались одновременно граждане только какого-нибудь одного пола, а когда какого, я никогда не мог предсказать заранее. Скользкий кафельный пол имел наклон к середине, и в самом низком месте была дыра, прикрытая решеткой. Примерно раз в десять минут решетка сплошь покрывалась прославленными своей липучестью банными листами, и мыльная вода поднималась по щиколотку, пока кто-нибудь, преодолевая вполне естественное отвращение, не подходил к решетке, на самую глубину, и специальной метлой не отгонял листья, а потом стоял, не пуская их обратно, пока уровень воды не опускался до ординара. (Когда я однажды увидел, как это проделывает самый чистоплотный в нашем дворе мужик, у меня мелькнула ужасная догадка: а вдруг чистоплотность не в том, чтобы избегать грязи, но в том, чтобы ее уничтожать?! Я вот всю жизнь брезговал житейской грязью — не потому ли теперь и сижу в ней по уши?)
В парной была всегда открыта форточка и стояли огромные, больше метра длиной, поленья, приятно, хотя и головокружительно пахнувшие осиной. Зато потолок был так закопчен, что, выйдя оттуда, я еще долго чувствовал где-то в гортани горечь старого пожарища.
В новой бане, куда стал съезжаться народ со всех окрестностей, даже с бетонного завода, ничего подобного, конечно, нет.
Мои ощущения, когда я туда попал, мог бы выразить разве что Маяковский, сочинивший «Рассказ о вселении литейщика Ивана Козырева в новую квартиру». Я был потрясен, хотя повидал немало бань на своем веку и веду с ними знакомство и по нынешний день, поскольку как не имел, так и не имею благоустроенной квартиры. (Когда в свое время я прочитал, как хемингуэевскому Джейку Барнсу после нокаута хотелось лечь в очень горячую полную ванну, чтобы как следует вытянуться, я принял столь странное, как причуда беременной женщины, желание за прямое следствие сотрясения мозга. Как можно вообще вспомнить о существовании ванны!) Но при всем моем опыте я был потрясен новой баней, как извозчик, впервые увидевший паровоз.
Бань я и в самом деле отведал довольно много. Начать хотя бы с того, что за нашим огородом, примыкавшим к задней стенке редкостно прогнившего дома, который дедушка очень оригинально ремонтировал (выкрошив руками прогнившее дерево, забивал туда старые ватные штаны, попавшие к нам чуть ли не по ленд-лизу); дома, где тем не менее по углам зимой всегда свисали красивые инеевые косы, никогда не казавшиеся нам чем-то экзотическим; дома, где я провел очень, а ты не очень раннее детство… Нет, вижу, из этого периода мне уже не выбраться! Словом, за нашим огородом стояла городская баня, или «горбаня» (помню, в этом слове мне чудилось что-то циничное: ведь нам постоянно внушали, что никогда не следует упоминать о чьих-либо физических недостатках). К огороду примыкал ее задний двор, заваленный шлаком и грудами железа, вероятно деталями от котлов, но тогда я в этом разбирался еще меньше, чем сейчас. Откуда-то из-под банной стены вытекал синевато-бело-серый теплый ручей — мыльная вода, уносящая в своих струях всю грязь населения районного центра (домов с ваннами у нас не было) и даже части района: там мылись и колхозники, приезжавшие на базар; около бани была даже специальная коновязь, на которой было очень заманчиво повисеть вниз головой. Из той же задней стенки бани торчала трубка, откуда лилась холодная и чистая вода, правда не питьевая, потому что ее откачивали из шахты. Ледяной ручеек прозрачной воды метров через десять вливался в могучую мыльную реку и, так сказать, растворялся в ней, если только чистое может растворяться в грязном, а не растворять его.
Там я любил играть, один или с друзьями, которые почему-то всегда были старше меня. И чуть ли не первое воспоминание связано с этими банными задворками. Я пытаюсь в своем самодельном ведерке с проволочной ручкой донести воды к нашему огороду, но все время расплескиваю, — ужасно тяжело! — а мой друг Гришка, желая мне помочь, говорит: «Дай я оттартаю», а его старший брат Лешка говорит: «Я тебе оттартаю!», а их еще более старший брат Мишка говорит: «Да пусть оттартает». Еще помню: они меня куда-то бегом волокут под руки, а я ничего не понимаю и только стараюсь не выронить ведерко.
От банного ручья я долго шел однажды к источнику ослепительного блеска, вспыхнувшего на пустыре за банным двором в летний солнечный день, шел, как к путеводной звезде, теряя ее и находя вновь, с душой, наполненной восхищением и трепетом: что я сейчас найду! — и остановился среди россыпи битого стекла. Я и теперь ясно вижу, как стою среди стекол со страдальческим недоумением на пухлом, безбровом лице с мягким, несформировавшимся носом. Таким я представлен на сохранившемся у меня любительском фото, где видна рука матери, одергивающей мою задравшуюся матроску. Кстати, эта матроска еще жива: Кучерявенковы, после того как ее относил их Колька, до сих пор вытирают ею со стола, я видел в прошлом году. Где-то, видно, завалялась. Случай со стеклом был первым разочарованием, которое я ощутил именно как разочарование. Но, может быть, это культурное чувство — не горе и не злоба — привнесено в мои теперешние воспоминания воспоминаниями предшествующими?
Поскольку наше «я» — это в первую очередь память, связывающая воедино меня вчерашнего со мной сегодняшним, то мое «я» началось где-то на заднем дворе «горбани», у слияния ледяного прозрачного ручейка с дымящимся мыльным потоком. Я даже думаю, не символизирует ли это чего-нибудь в моем характере или биографии? Надеюсь, что все-таки нет, хотя этому символу можно дать и выгодное для меня истолкование.
Но какое наслаждение было медленно брести по холодной воде и, когда ломота в ступнях становилась уже совсем невыносимой, вдруг ступить в густые дымящиеся мутно-мраморные воды! Ломота неохотно, но верно уходила, и можно было, забыв о ней, чавкать по дну и в заводях откапывать каких-то коротких толстых червяков, зарывшихся в ил, но высунувших наружу тоненькие ниточки хвостов, колеблемые водой.
Даже странно, что никто из тех, кому я про это рассказывал, не сумел вполне скрыть гримасу отвращения. А родители, наверно, просто ужаснулись бы, узнав о моих занятиях. Вспоминая об этом, я смотрю на своего сынишку и думаю: а чем-то он занимается без нас? Наблюдая за ребенком, все равно не вернуться в мир детства, ребенок сам, один, живет в нем, а тебе лишь изредка, как экскурсовод туристу, продемонстрирует какой-нибудь фрагментик этого мира, где вещи еще не застыли в своих функциях и законы природы пока что сходны с людскими законами, которые можно и обойти. Я уже не имею возможности так прекрасно ошибаться: называть горелые сухари «жгучими», верить, что шапка может укусить, — то есть видеть, что мир мог бы быть и не таким, каков он есть. В этом возрасте, упрашивая тебя спеть ему, он лезет ручонкой в твой рот, пытаясь извлечь оттуда песню. Попозже он начнет переносить в жизнь рациональность и предопределенность книг и фильмов: висящее на стене ружье должно выстрелить, хороших не убивают, только самых незначительных, которых не жалко, если фильм про индейцев, — закон жанра, один из немногих замеченных им законов. Я сам не так давно вышел из возраста, когда судил и строил жизнь по вычитанным законам, причем непонятно откуда вычитанным. Может быть, даже и сейчас не вышел, а все еще выхожу. Довольно часто ребенок напоминает тебе о разных мелочах твоего собственного детства, хотя бы в той же бане, пуская мыльницу в тазу или булькая, погрузив лицо в воду. При этом он обычно просит меня считать до ста, но я отказываюсь. До трех — это еще куда ни шло. Еще он называет теплую воду горячей и не верит в существование вкусного супа. Как я когда-то.
Что принципиально новое в бане открыто для меня сыном, так это ощущение, с каким намыливаешь его розовую, как у поросенка, упругую и скользкую кожицу или видишь, как под первыми каплями из душа его намыленная макушка становится рябой, как снег под деревом в первую оттепель, а потом смотришь на его зажмуренное лицо в струистой стеклянной маске под расползшимися в прилизанный прямой пробор волосами, которые скрипят под пальцами, как осока.
А подлинно удивительно в ребенке то, как быстро он улавливает и принимает наши сложные, веками разрабатывавшиеся отношения, понимает, где нужно похныкать, где улыбнуться, на ком можно проехаться, а кого нужно провезти самому, принимает наши оценки: плохо быть смешным или пугливым, лучше иметь, чем не иметь, лучше не работать, чем работать, потому что если бы работа считалась приятным делом, то ею следовало бы делиться с другими. Однако взрослые называют это не «делиться», а «сваливать на других». Все педагоги, единодушно утверждая, что воспитывать следует личным примером, признают тем самым, что человек более склонен подражать, чем прислушиваться к голосу рассудка. Кое-что для понимания наших отношений дается ему природой, а остальное, вероятно, не так уж сложно? Развивалось веками, но может быть пройдено за три года.
Но главное ощущение, которое даруют нам дети, — это ощущение беспомощности, близости несчастья и невозможности отвести его от них, обостренное чувство бессилия наших мышц и ума, от которого и нам-то проку мало. Удивительно наше мужество или легкомыслие — наша готовность жить с такой незащищенной раной! Вот моему сыну уже нельзя посещать парилку: сердце барахлит. Беда пока не очень большая, говорят — «возрастное», но ведь может прийти и большая.
Наша «горбаня» внутри была очень темная, грязно, с песком, зацементированная, со скамейками из толстенных досок, словно где-нибудь в подвалах инквизиции.
В бане имелись еще и семейные номера, куда нас, пацанов, не пускали, зная из предыдущего опыта, какой разгром мы там учиняем. Мы обычно поднимали возню и в общем отделении, но там первый же взрослый, на которого попадали брызги холодной воды, грозил нас выгнать, иногда подкрепляя слова каким-нибудь выразительным жестом, вроде подзатыльника, и мы утихомиривались.
Когда я переехал в областной центр к тете Зое (ты уже учился в институте), мы ходили там в баню, снабжаемую горячей водой из ТЭЦ. Зимой от ТЭЦ к бане среди сугробов тянулась черная полоса. Здание было ничем не примечательным, хотя там, откуда я приехал, оно послужило бы украшением города. Через несколько лет, в другом захолустье, я вдруг наткнулся на двойника этой бани. Тогда я еще не знал, что такое типовой проект, и обомлел, как если бы встретил покойника.
Попадая в новые места, я всегда именно в бане приглядывался к местным жителям, отыскивая в их сложении характерные для этого края черты. И всегда находил! А может, мне казалось. Но ведь я своими глазами видел и мощь северян, и исполненное силы изящество южан. Неужели можно увидеть выдуманное?
К слову сказать, мое юношеское увлечение культуризмом долго заслоняло от меня красоту не чрезвычайно, а просто здорового, просто сильного мужского или юношеского тела, способного к тяжелой физической работе. А сейчас я могу любоваться просто широкими плечами, тяжелыми руками, пусть даже оглаженными жирком, или доброкачественной сухощавостью сорокалетнего мужчины (сухощавость — отсутствие одышки), или просто стройной талией, просто свободной осанкой, точеными плечами, гладкой кожей юноши. Возможно, это слияние красоты со здоровьем — предвестие старости.
Я часто встречаю около своего дома довольно высокого парня лет двадцати со слипающимися пучками неопределенного цвета волнистых волос на голове, в вишневых ботинках с искусственными потертостями, в потертых сторублевой потертостью джинсах и в ярчайшей желтой нейлоновой куртке с черными латинскими буквами на спине. Представляешь, как он все это доставал? Лицо на удивление не то что бессмысленное, а ничтожное, короче говоря, лицо шпаны, и даже не сегодняшней, приобретшей некий ковбойский лоск, а некультурной шпаны нашего детства, сатанински выглядывавшей из-под козырька «восьмиклинки» пли «блина» — в зависимости от хулиганской моды, столь же прихотливой, как любая мода, ибо, несмотря на эпатирующий облик, они одевались с уставной тщательностью, как сверхсрочники, — то застегиваясь до подбородка, то срезая все пуговицы и появляясь запахнутыми, придерживая полы руками. Зимой же они сверкали глазами из-под шапки с загнутыми наверх, но не связанными, а торчащими, как у дурацкого колпака, ушами, в сапогах с загнутыми голенищами. Сапоги подбирались на пару размеров больше нужного, чтобы они, присваливаясь на каждом шагу, с громыханием волоклись по полу.
Интересно, что представители самых свободных профессий — хулиганы и художники, а также искусствоведы — больше всех тяготеют к униформе, хотя и отличной от армейской (я имею в виду замшевые куртки, усы, ассирийские бороды, джинсы и другие знаки различия). Видимо, в данном редком случае крайности сходятся.
Так вот, этого парня я недавно встретил в парилке; он спокойно стоял, положив руки на бедра, узкий, с тонкими, но не тощими, а даже как бы припухлыми руками, превосходно вылепленной грудью, талией, бедрами — мускулистыми, но плавно, округло, будто отштампованными из упругих сортов пластмассы. Вьющиеся волосы, мягкие блики и тени на мечтательном красивом лице довершили узнавание. Это был Марс Боттичелли, уже проснувшийся и размышляющий о том, что без войн, пожалуй, даже лучше. Преображение было так удивительно, что я не мог не вспомнить Сельвинского: «Нужен только образ, чтоб увидать в уродстве красоту».
Я не говорю о женской красоте: женщина всегда прекрасна, когда выполняет свое земное назначение — быть плотью добра, душой которого являются мыслители, хотя, конечно, далеко не все.
А сколько я переслушал в предбанниках и парилках дискуссий о сравнительных достоинствах различных бань, о вентиляциях, о сухих и сырых парах, о вениках, о способах поддавания и «уловления» пара, о недопустимости намыливания в парилках, иногда даже со ссылками на какие-то научные авторитеты, с упоминанием обмена веществ, нервной и сердечно-сосудистой систем и т. п. Попадались эстеты, выполняющие банный ритуал с почти религиозной торжественностью. Самая его отточенность навела бы древних на мысль о его божественном происхождении. Стоило только посмотреть, с какой истовостью эти эстеты заворачиваются в простыни и отрешенно сидят, погрузившись в мир им одним доступных ощущений. Однажды я почувствовал невольную зависть, глядя, как один из них неторопливо откупоривает «маленькую», хотя я прекрасно знал, какая это мерзость — теплая водка в жарком помещении, да еще без закуски.
Знатоков банного дела можно узнать и в парилке, но не по разговорам, которых может нахвататься всякий, а по тому, как кругообразными, плавными, как пассы гипнотизера, движениями они начинают похлопывать двумя вениками (одного им мало) по распростертому перед ними телу, которое сначала слегка подрагивает, как студень, а потом, когда темп усиливается и подрагивания уже не замечаются, сразу же покрываемые вениками, только багровеет, а парильщик, словно подрагивания, многократно усиленные, передались ему, экстатически трясется, то с вдохновением дирижера лупя со всего размаха, то создавая высокочастотную вибрацию веников, сверкая облитыми потом плечами. Но и этого им кажется мало, и вдруг, уткнув веник в тело, они начинают возить им, словно бритвенным помазком, только гораздо сильнее. Так подметающая хозяйка наступает на веник ногой и начинает оттирать что-то присохшее к полу.
Продолжение следует…