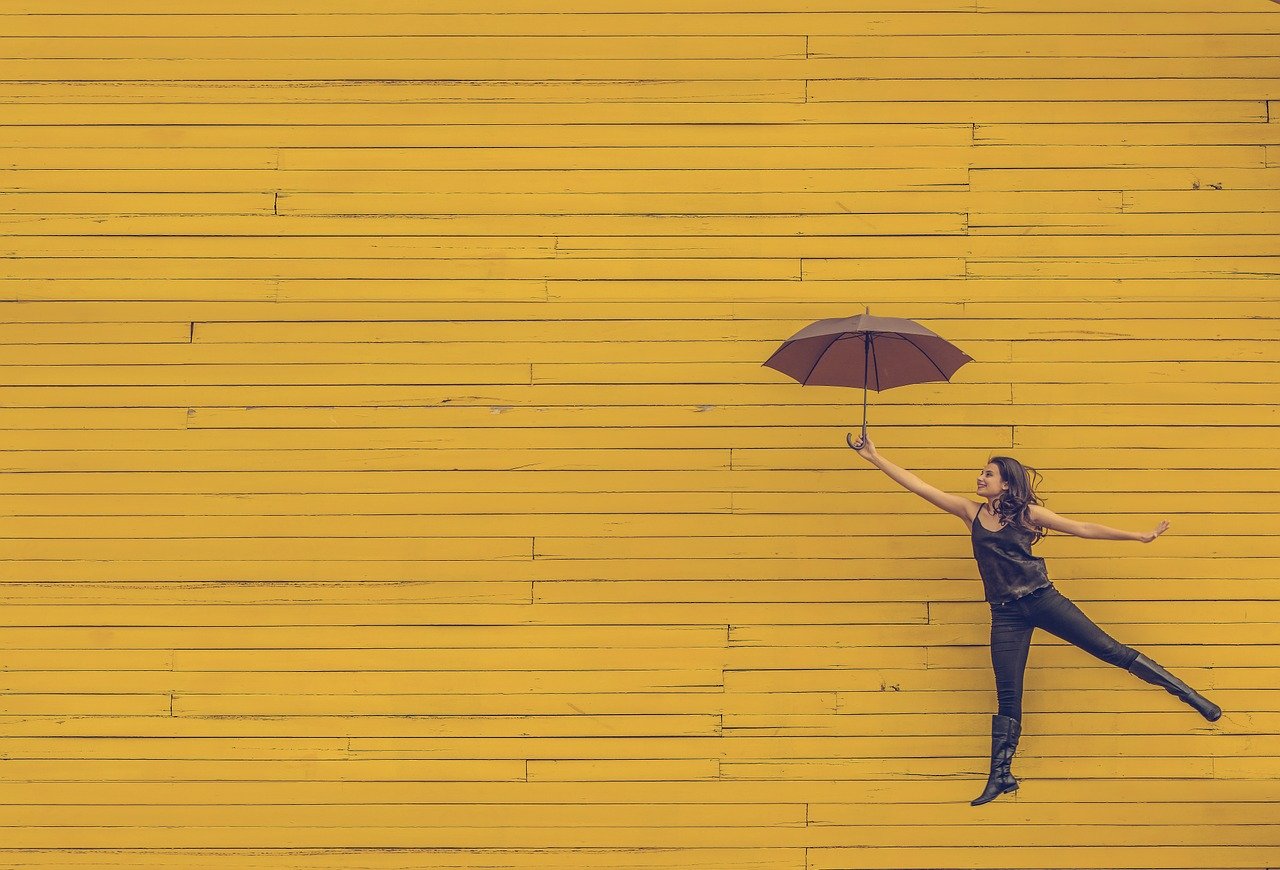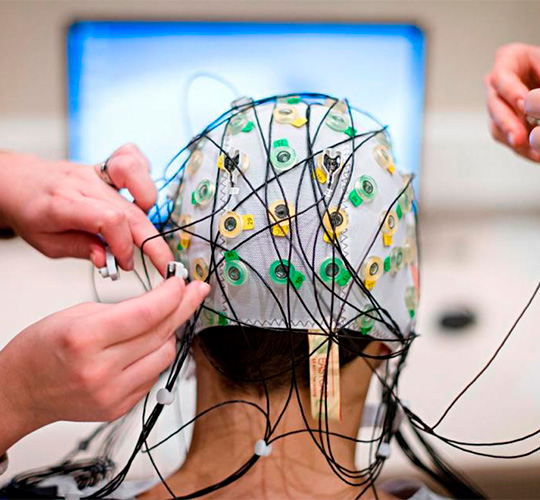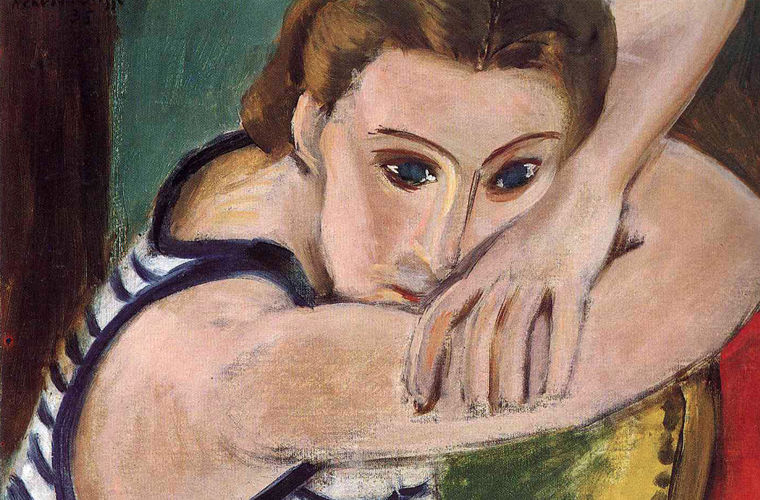Вечер был сырой, безлюдный и ветреный. Рваный, резкий, дикий ветер продувал насквозь и пробирал до того, что, кажется, будто сама душа, трясясь, изнемогая и вопя, молила остановить этот беспощадный, нескончаемый поток воздуха, так быстро и сильно бьющий в лицо. Осенняя сырость влажной ржавчиной покрыла весь городской пейзаж. Нескончаемый шелест листьев, похожих на пожелтевшие страницы книг, давно брошенных, пыльных и таких неприятно жёлтых, что хочется взять и отбелить их, вытравить эту желтизну и дать им новую жизнь. Цвет неба был сродни цвету самому омерзительному, взглянув на который, так и хочется содрогнуться всем телом и опустить глаза с миной нескрываемого отвращения. Слякоть средней полосы захолустной русской деревенской глуши не сравнима с той, которая была в ту пору в городе Г***.
Именно в такую погоду, именном таким вечером, тревожно, как бы весь скукожившись, но довольно бодро и спешно шагал наш главный герой по переулку, ведущему, впрочем, на главную улицу этого Богом забытого дрянного городка в трёхстах километрах от столицы. Всё окружавшее нашего героя: потрескавшаяся мостовая, одним заляпанным ковром стелившаяся перед глазами, стены домов, давящие своей безучастностью, безразличием и блёкло-болотными тонами, и даже шарканье подошв потасканных кроссовок — очень явственно говорило Господину К., который и есть наш главный герой, куда и зачем ты вышел? И совершенно было не понятно ему, что даже собаки, грязные и голодные, но не потерявшие того искреннего человеческого сострадания, которое, пожалуй, только у собак и осталось, и те, глазея из подворотен, слезливо провожают его. Нервно спешащий, как бы неся не своё тело, Господин К. постоянно озирался и чувствовал нарастающую тревогу, тоску смертную и полнейшую безысходность, которые, как ему казалось, должны привести к неизбежности рокового исхода. Он выглядел как олицетворение того, к чему приводит череда фатальных ошибок. Как будто кто-то вёл его, а не он сам шёл, какая-то неведомая сила влекла его вперёд, заставляя быстрее и быстрее семенить длинными и тонкими ногами, которые опять же казались Господину К. совершенно чужими. Если бы какой-нибудь новоиспечённый Гольбейн решился писать нашего героя, не видя «этот смутный объект желания», то он вполне мог бы воспользоваться следующим описанием.
Господин К. был человеком средних лет, примерно за сорок. Довольно высокого роста, сутулый, худой, и худоба его казалась всем, видевшим его впервые, какой-то болезненной и неестественной, хотя он был таким от природы. При взгляде на него легко читалось, что плевал он на свою внешность, на свою врождённую дистрофию и на мнение окружающих, с одной и той же высокой колокольни. Большой «греческий» нос с горбинкой, может, и был бы его достоинством, будь у него совершенно другое лицо, соответствующее такому подарку природы. На нашем же Господине К. он смотрелся так, как огромная морковка на тощем снеговике. Черты лица его были крайне неприятными, острыми и пугающими. Что именно в его лице было таким отталкивающим и заставляющим во время разговора с ним смотреть куда угодно, только не на него, никто вам толком так и не смог бы сказать, но факт остаётся фактом. Глаза были его главным оружием на протяжении всей жизни. Весь его облик был такой странный, неряшливый, несуразный и гнетущий. Но была в нём и тайна где-то в самой глубине его гудроновых очей. О, это были не просто глаза! Это были настоящие горящие угли с дьявольским блеском. Казалось, они могут прожечь насквозь и магнетизм их беспощаден. Взглянув в них раз, можно смело умирать! Необъяснимую мощь потусторонней энергии, которую они излучают, вряд ли, вообще, можно ощутить при иных каких обстоятельствах, кроме как при взгляде в эти инфернальные колодцы. Жаль, что их сила, поистине великая, «просыпалась» лишь при особых обстоятельствах. Они пламенели, вспыхивали и были сродни гиене огненной (тогда и казались уже как бы и вовсе не его глаза, а какие-то чужеродные, демонические), только при виде чужой боли, скорби, страданий и бед. Когда он становился свидетелем несчастного случая, видел сбитую кошку на дороге или избитого пьяного рабочего в канаве, обворованную в магазине женщину да или просто орущего и плачущего ребёнка… Тогда от этого люциферова сияния было уже никуда не деться, тогда они пылали и их волей-неволей приходилось прятать за стёклами дешёвых зеркальных очков. Большую же часть времени они были совершенно потухшими, безразличными, ничего не выражающими и ничего не говорящими, пустыми глазами несчастного человека.
Шаги его ускорялись, он уже не шёл, а почти бежал, бешеная паника, охватившая его вдруг, застрявшая где-то не то комом в горле, не то спазмом в груди, давила на него извне. Плащ его, длинный и серый, сильно поношенный, полы которого развивались на этом яростном ветру, сидел на нём, как на вешалке. Джинсы, блёклые, почти бесцветные, когда-то ядовито-зелёные, теперь выглядели просто грязно-уставшими и сделаны были будто из тины. Ощущение, что тело не его, становилось более устойчивым и навязчивым. Так, выйдя на главную улицу, не поднимая головы, он уже шагал так быстро, что издалека можно было подумать, что он бежит. Неожиданно громко и как-то чрезвычайно резко на всю улицу заиграла музыка. Что это? Откуда?
Господин К. остановился. Тяжело дыша, хватая воздух неприличными дозами, он провёл рукой по редким и мягким, цвета вороньего крыла волосам, которые едва прикрывали его острые, почти эльфийские уши, резко поднял голову, выражение его лица говорило о невероятном, каком-то врождённом презрении ко всему происходящему. Он услышал, вернее, чуть не оглох от того, что, как гром средь ясного неба, раздалась до боли знакомая музыка. Оцепенев и вслушавшись, Господин К. даже на секунду просиял. Звучала его любимая с самого раннего детства четвёртая симфония Малера. Приглядевшись и силясь понять, откуда идёт звук, он определил, что мелодия доносится откуда-то из подвала дома, напротив которого он стоял. Невольно, как бы не управляя собой, он пошёл на звуки этой божественной симфонии. Голова его окутана была какой-то ноющей болью, ощущение, будто бы два маленьких чёртика изо всех сил долбили своими маленькими, деревянными колотушками по вискам и затылку, ни на секунду не покидало его.
Небольшая, облезлая, чёрная, чугунная лестница вела в подвал покосившегося дома дореволюционной постройки. Спустившись по ней, он оказался перед ветхой, почти сгнившей дверью. Ручки у двери не было, с усилием толкнув её, он оказался внутри. К его удивлению, это было самое обыкновенное кафе, коих не счесть на просторах нашей необъятной Родины. Внутри было очень уютно и совершенно тихо. Аромат свежесваренного кофе прямо-таки убаюкивал. Отсутствие звуков наводило на пугающие мысли. Только сморщив лицо от напряжения слуха, еле-еле можно было услышать, как молодой бармен чешет бороду, которой, по всей видимости, обзавёлся впервые. Кристальная чистота, которой нигде не бывает. Смелый желтковый свет, довольно яркий, но расслабляющий. Все звуки, словно сговорившись, отказались фланировать по этой обители катарсиса. Не было ни намёка на посетителей и на следы их пребывания. Одинокий, приветливый бармен, приятной наружности молодой человек. Столы, украшенные свежими полевыми цветами, аляповатые обои цвета фанданго, на удивление, не раздражали, а даже как-то гармонично вписывались в интерьер. Приятное, даже по столичным меркам место, в котором всегда чисто, тепло и уютно. Господин К. как будто совершенно перестал понимать, что происходит и что это за чудо-чудное, такое сказочное место в такой дыре? И откуда тут Малер и его прекрасная четвёртая симфония? И почему на улице она звучала невообразимо громко, а здесь гробовая тишина? Он даже стал тереть своими белыми, как молоко, ладонями чуть вспотевшее лицо, будто умываясь. Силясь понять, не мираж ли это, не игра ли это его чрезвычайно потрёпанного воображения и, наконец, не бредит ли он?! Поняв и, насколько это было возможно, осознав реальность, он сделал глубокий вдох. Д-а-а, это захолустье воистину умеет удивлять, подумал наш герой, озираясь по сторонам и прикидывая, куда бы ему присесть. Вдруг совершенно неожиданно увидел в самом углу за столиком светловолосого мальчика, милого школьника, который с интересом читал книгу, не обращая совершенно никакого внимания на вошедшего Господина К.
Картина была настолько сюрреалистичной, что в неё без труда можно было поверить. Господин К. ещё раз прокрутил в голове всё происходящее. Мечтая отделаться от мысли, что он совершенно перестал различать сон и явь. Заброшенный городишко, гнилая погода, поздний вечер, совершенно безлюдно (хотя это и крайне странно), в подвале ветхого, на ладан дышащего дома-кафе, как в фильме «Завтрак у Тиффани». Снаружи грохочет великий австриец мистической симфонией. Внутри такая тишина, что уж лучше бы что-угодно играло, по законам жанра здесь Одри Хепбёрн должна исполнять «Moon River». Рослый бармен с девственной бородкой, в углу неприметный мальчуган с книжкой, аромат полевых цветов, молотых зёрен и старого мира. Вроде всё так, и ни волосы драть, ни щипать Господину К. себя было не обязательно, реальность сама собой накрыла его. Ни говоря ни слова, быстрыми, нелепыми шагами он подошёл к столику, за которым сидел мальчик, резво отодвинул винтажный стул, молча сел, впился глазами в парня, который невозмутимо читал, казалось, он в совсем другом мире сейчас, всем своим видом доказывая, что книги — лучший телепорт.
— Позволишь? Прости, я присел, не спросив, но так нужно было, я так почувствовал… – Постарался ровным и дружелюбным голосом сказать наш герой.
Мальчик слегка удивлённо посмотрел на Господина К, ничуть не испугался, лишь шмыгнул носом, заложил свою толстенную, в кожаном переплёте книгу указательным пальцем правой руки, поправил упавшую на лоб чёлку и спокойно приготовился ждать, что же будет дальше?
— Я не искал компании, но, увидев тебя, сам не могу понять, как будто что-то меня направило именно к тебе. Так ты не против? Ничего не подумай, я недолго, вернее, много времени не займу, просто мне нужно… Кому-то нужно обязательно это сказать. Мне так плохо. Но будет ещё хуже, если я, если я не выговорюсь. Прошу, можешь меня выслушать?
— Угу,.. – слегка улыбнувшись и с нескрываемым любопытством ответил юнец.
Герой наш говорил сбивчиво, негромко, его прокуренный голос слегка подрагивал. Волнение и паника, что ещё на улице нахлынули на него, вновь дали о себе знать. Его тонкие губы побели, руки чуть заметно начало сводить судорогой. Его и без того колючее, неприятное лицо, желая выглядеть дружелюбно, стало откровенно мерзким и неестественным. Пытаясь, что есть силы, держать себя в руках, чтоб не впасть в истерический припадок, Господин К. продолжал.
— Я, знаешь ли, никому никогда, да и теперь не уверен.
Он вдруг резко замолк. Сделал глубокий вдох, расправил плечи, как бы весь воспрял. Всё это время он пристально смотрел в удивительные, изумрудные глаза внимательного мальчика.
— Я должен, понимаешь, просто должен сказать. Это не исповедь, нет, это просто одно обстоятельство, которое вот уже много лет, моё проклятье, моя кара Божья, моя ноша, крест мой. Понимаешь ты это?
Мальчик утвердительно кивнул. Вытащив палец, заложенный в книгу, он отложил её на край стола и как бы весь превратился в слух, не отводя взгляда от Господина К., хотя это и требовало немалых усилий, но он молчал и слушал.
— Знаешь, у меня была дочь. Лизавета. Прекрасный ребёнок, очень сообразительная, такая нежная и всегда ласковая. Великая пианистка в будущем, такая, как Брендель или Фишер. Большего всего на свете она любила играть на фортепьяно и собирать разные цветы, в основном полевые, хранила их в книгах между страниц… Любила меня просто безумно, моя маленькая Lize…
Он остановился, сделал глоток воздуха, его мучила жажда, язык прилипал к нёбу, но он понимал, что времени мало, нужно как можно скорее всё рассказать, ведь это не просто важно, это весь смысл его бессмысленного существования. Господин К. ясно осознавал, что говорить ему всё труднее, слёзы начинали душить его, руки стали сильнее ходить ходуном, весь он был в крайней степени взволнован.
— Она была, веришь, она жила, она и сейчас, вот она, как живая, рядом.
Наш герой, указывал трясущимся указательным пальцем на пустой стул справа от него.
— Она всё время рядом со мной, я всегда могу её видеть, даже во сне, а её-то нет, понимаешь? Её уж очень давно нет, она исчезла, совершенно. Как нет этой, так всеми любимой, вечной жизни, так и в этом мире нет её, она ушла туда, откуда не возвращаются. Она, она…
Вдруг крайне неожиданно Господин К. начал невероятно громко и неестественно хохотать. Он залился смрадным, зычным смехом. Картина происходящего начинала походить на встречу сына с пациентом жёлтого дома. Смеялся странный Господин, как умалишённый, из его открытого рта прыскали густые белые слюни, глаза закатились, руки барабанили по столешнице, будто убивая невидимых мух. Весь он просто дребезжал. В этом момент, глядя на него, можно было подумать, что смеётся человек, который дал обет не смеяться и воздерживался от этого целую вечность и вот сорвался. Он был в полном исступлении, почти потерял самообладание, лицо его было непросто свирепо-безумным, а походило на морду смеющегося разъярённого медоеда. Так же неожиданно он прекратил этот поток гомерического хохота и спокойно продолжил:
— Но знаешь, мне всё равно. Мне даже легче стало, когда она ушла в эту зыбучую пустоту. У меня дочь умерла, а я рад, я счастлив, можешь себе это представить? На похоронах ни слезинки не проронил, веришь ли? Я ведь с собой разобраться не могу. Душа, век не мытая, вся сажей измазана, а в голове туман, я как этот ёжик, только туман внутри и не выветривается, а тут ещё и дети, им нужно помочь найти себя в этом мире. А я почти ни во что не верю, только в неизбежность неминуемой смерти и в то, что за всё приходится платить, а всего остального для меня как бы и нет. В её смерти я виноват, да, именно я, никто другой. Была зима, страшный гололёд, мы неслись по горному серпантину, я за рулём, она справа, спешили, я не справился с управлением – вылетели на встречку и правым боком в отбойник. Она не мучилась: смерть была мгновенной, а на мне ни царапинки. Моя Lize меня любила, как Бог любит людей, что даже Сына Своего Единородного отдал на позорную крестную смерть за грехи людские. Хотя бы и враньё это всё! Но Лизавета верила, знаешь, очень верила в Бога и даже в вечную жизнь. Вот как она меня любила, могла бы и мои грехи искупить, и мучиться готова была за меня, эта девочка, это чистое создание. Я это всегда явственно чувствовал, глядя на неё. А всё почему? Потому что мы с ней одной крови? В этом причина никому не нужной слепой любви? Она уж теперь никогда не узнает, ради какого монстра и шоггота она на кресте висеть готова была! Да-а-а, любить и всё, что с этим связано, это я презираю всеми фибрами своей чумазой души, это самое нелепое и бессмысленное, что есть в этом вонючем мире!
Он прервался, дышал тяжело, из глаз катилась всепоглощающая ненависть. Он уже слабо понимал, что происходит и кто перед ним. Мир становилось мутным, расплывчатым. Всё было как не настоящее, он до крови прокусил нижнюю губу, чтобы почувствовать боль и хоть как-то вернуться в реальность. Им управляло лишь желание понять, что он это он, что тело его, что он всё ещё его хозяин. Вкус крови ободрил и немного успокоил нашего героя. Мальчик, казалось, просто оцепенел, глядел широко раскрытыми красивыми глазами и проникался словами нашего героя до самой глубины своей неокрепшей души. Господин К. продолжил:
— Ты пойми, я совсем не мастер жонглировать словами и мне не так просто это всё высказать. Это как себя резать бритвой, свою плоть и своё нутро, а мне это совсем не по нраву, ведь я уже так делал и не раз. Это всё ещё хуже, чем не понимать зачем живёшь! Я, знаешь ли, решил тут тебе всю правду о себе вывалить, а её, правду эту, я искренне ненавижу, прям до тошноты, глупо это всё, так глупо, что аж и поверить тяжело. Сижу тут, как на Страшном Суде, невинному агнцу, желчь на тарелочке преподношу как самый настоящий подлец из подлецов, заметь и ничуть не горюю, даже счастлив и рад, а таким я никогда не бываю с тех самых пор. Запомни одно — от правды все дерьмо на этой земле и чем правды больше, тем больше вокруг дерьма. Лучше бесконечно плыви по бескрайнему океану лжи. Ври и себе, и людям, хотя, если будешь врать только себе, этого вполне хватит, чтоб слиться с этим серым стадом и счастливо прозябать, думая, что живёшь и что цель есть. Все так живут и все так думают, что что-то значат, куда-то идут, стремления у них у всех какие-то! Чушь это всё! Я настоящий! Я правду презираю! Я, может, и на чёрта хвостатого похож, когда эти мои зенки полыхать начинают, но из всего этого сброда только я один и настоящий, запомни это. А всё из-за этих проклятых глаз. В них всё дело, в них! В этих двух маленьких осколках того лучезарного света, что, вероятно, был и жил во мне, когда-то, скорее всего, когда я удостоил этот дряхлый мир своим появлением.
Неожиданно нахлынуло спокойствие, непонятно откуда взявшееся. Нашему Господину становилось легче, мальчику интереснее, лишь бармену было всё также безразлично, чем эти двое там в углу занимаются и о чём говорят. Дальше продолжил свою зловещую, туманную околесицу Господин К. чуть более уравновешенно, но с очень плохо скрываемым презрением ко всему живому, особенно к себе.
— Все проблемы людские связаны лишь с неумением признать и полюбить свои слабости. Издавна они порицаются и осуждаются, а я уже давно понял, что силён человек только, если свои слабости и пороки боготворит, они у него во главу угла поставлены, и он ими питается, а они «заряжают», наполняют его ещё большей силой. Пусть не всякий эту силу понимает, зато ощутить сможет любой. Сила эта на всех действует, всех заставляет пресмыкаться, всех угнетает, и пусть она и злая сила, чёрная, основанная на грехах, как клерикалы бы сказали «бесовская сила», зато она мир вращает, и люди это чувствуют и боятся. Ты, верно, и не знаешь, что Мефистофель говорил: «Я — часть той Силы, что вечно делает добро, желая зла.» Со мной совсем другая история, так как я и есть та самая Сила, это ощущение давно разлилось во мне. Как в одном стихотворении написано: «Как будто в зеркале, вот – я, но я – мой враг.» Это поэт красиво сумел сказать, я лишь сотру границы и изреку, что не только себе я враг, а всем, кто слабость за основу силы не почитает, тем я самый лютый враг и есть. Глаза вот, боль людскую видят и горят, да что там горят, лава из них сочится, пламя полыхает, ад торжествует, хотя и этого недостаточно, чтоб всю их Силу описать. Это моё проклятье, моя ноша, но и моя опора. Она у меня вместо души, если хочешь, избавляет от мук совести, прям как антидот какой-то. Хотя я в душу свою уже давно не верю, так вспоминаю о ней иногда, для красного словца. А вот треклятая совесть была когда-то, глаза-то загорелись впервые, когда мне семь лет исполнилось, в тот самый день и началось… Аккурат в мой седьмой день рождения отошла в иной мир моя нелюбимая бабка (я тогда уже людей за людей не считал, разве что за самых низших тварей), а её особенно, слишком она нравоучениями мне жизнь пересолила. Так я, малой наглец, когда взрослые толпились у её постели, пытаясь помочь (хотя чем уж тут поможешь) облегчить ей муки предсмертной агонии, притаился в углу и в незакрытую дверь все её мучения смаковал. Да, да, улыбался и смаковал, даже плакал от радости впервые в жизни. Тогда-то в аду рубильник и включили, глазища заполыхали и мрачное чувство злой Силы поселилось во мне и уж больше не покидало никогда.
Вдруг раздался страшный грохот, как раскат грома или выстрел из Царь-пушки, которая никогда не стреляла, но если бы вдруг разродилась, то звук был бы именно такой. Колючий ветер ворвался в настежь распахнутые окна. В это самое мгновенье кто-то в этом мире или мире следующем, действительно, выключил рубильник и свет полностью погас, на несколько секунд, не более.
Тишина, почти загробная, повисшая на протяжении всего разговора, теперь была полностью уничтожена. Кофейный аромат больше не смыкал веки всем его обонявшим, а вихрем кружил по потолку. Свет вновь горел, транжиря яркую желтизну. Малер, загадывал ещё больше загадок своей музыкой, звучавшей ещё навязчивей и громче. Теперь уже и в кафе, и в голове Господина К. В темноте он потерял, «невинного агнца», но и при свете не мог его найти. Нигде не было и бармена.
Наш Господин, не обращая внимания на ветер, дубасящий его по щекам, скорбно смотрел на то место, где сидел светловолосый мальчуган с изумрудными глазами, и не мог ничего понять. Мальчик просто исчез, как Атлантида. А был ли он вообще? Не приходя в себя, закрывая обеими руками уши, из которых вот-вот брызнет алый сок, что кровью зовётся, выпуская тёплый воздух из раздувавшихся ноздрей, Господин К. увидел толстую книгу, лежащую на краю стола, очень красивую, с золотым тиснением на корешке.
Приглядевшись, он прочитал название «Библия».