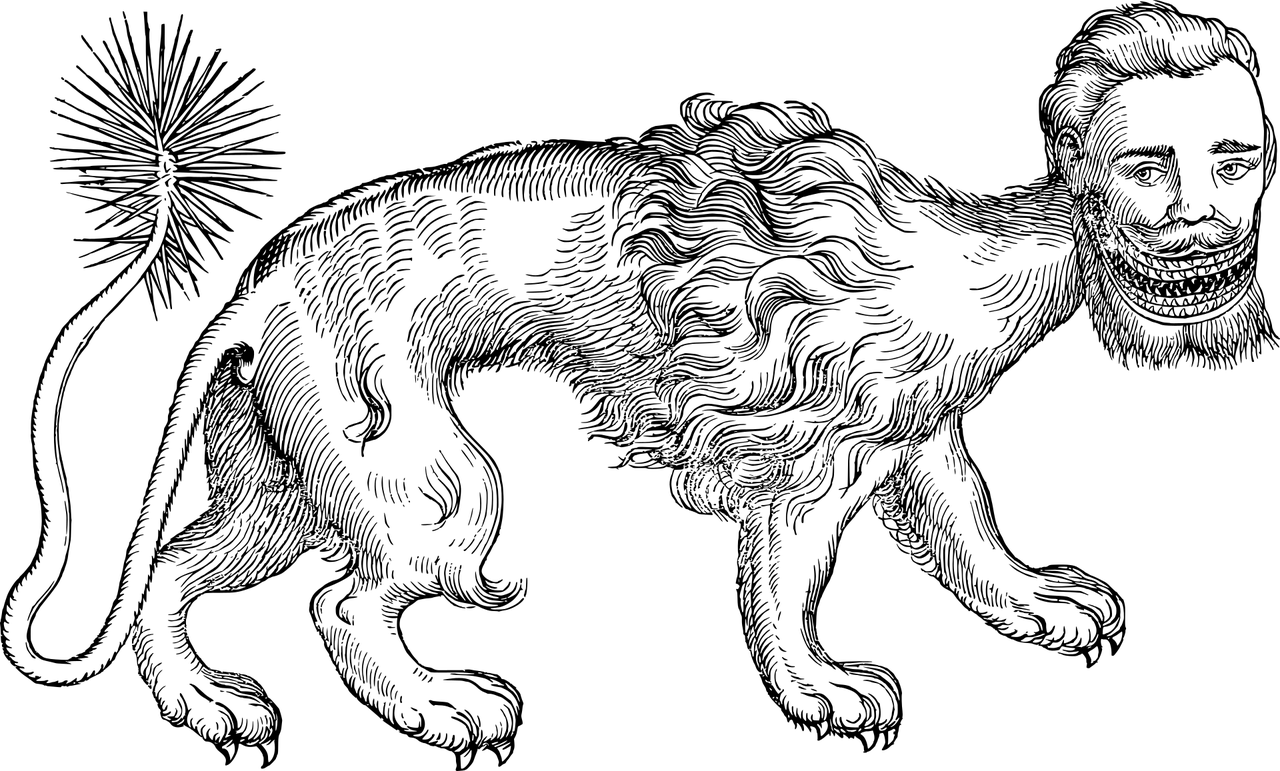Были у меня четыре няньки.
Баба Катя, баба Лида, баба Шура и Полина Константиновна.
Бабу Катю знаю только по рассказам. Мне был год, когда она пришла. Надолго не задержалась — пару месяцев всего. Называла меня Коротышка-Каторжна. За что — не знаю. Но, наверное, я ей не нравилась.
Потом наступила эра бабы Лиды. Баба Лида была со мной каждый день, несмотря на то, что отец почти всегда работал дома.
Он писал сценарии на Центрнаучфильме. Но слово «сценарист» я узнала гораздо позже. Баба Лида учила меня на вопрос, кто твой папа, отвечать: «кинорежиссёр». Ещё баба Лида всегда умилялась моему сходству с отцом, с её слов и все остальные называли меня «копия». Что такое копия, я тоже не знала, и почему-то эти слова — «кинорежиссёр» и «копия» слились в моей голове со звуком каретки отцовской пишущей машинки, и её никелированный рычаг всегда вызывал в памяти эти слова и воспоминания о бабе Лиде.
В общем, отец работал у себя в кабинете, за закрытой дверью, а мы с няней жили тихой детской жизнью в остальной квартире.
Летом баба Лида пасла меня в Коктебеле, потому что отпусками родителей всё лето не покрывалось. Понимаю сейчас, что была баба Лида не старая — чуть за пятьдесят, наверное. Носила слуховой аппарат с розовым пластмассовым наушником, тяжеленными батарейками и длинными белыми проводами, и, должно быть, поэтому ходила всегда в платке — летом — хлопковом, зимой — тёплом.
В те годы многие женщины ходили в платках, а уж «бабушки» — почти поголовно. (Удивительно здесь подходит это слово). Сейчас-то платками никого не удивишь, но эти платки носят совсем другие люди — приезжие. Москвички же в платках ходили до середины семидесятых, потом вошли в моду вязаные шапочки. Так что с середины семидесятых и до недавнего времени увидеть в Москве бабушку в платочке было почти невозможно.
Баба Лида готовила, кормила меня, гуляла со мной и ещё чем-то важным со мной занималась. Книжки, наверное, вслух читала, рисункам умилялась. Летом ещё писала родителям письма через день — о том, как мы с ней живём. С забавными, но мною давно забытыми подробностями: как «Надя нашла коряжку, похожую на жирафа, и страшно радовалась, а Машуля ту коряжку потеряла случайно, и Надя плакала».
Бывали в нашей с ней жизни драмы и пострашнее. Например, однажды, года в два примерно, я вывалилась из детской кроватки, перелезши через высокую решётку, и конечно, разревелась. А ревела я тогда громко. Баба Лида, сломя голову прибежала с кухни, где мыла посуду — поднимать меня и утешать. А кран закрыть забыла. И был потоп. (Так что я родилась в допотопные времена).
С бабой Лидой связана у меня одна стыдная история. Была у бабы Лиды дочка, а у дочки — тоже дочка, меня немного помладше. Этой вот дочкиной дочке мама отдавала мои одёжки, когда я из них вырастала. Так все тогда жили — детские вещи переходили из рук в руки много раз. Одежду донашивали за старшими братьями-сёстрами, детьми знакомых и не очень знакомых. Не потому, что бедность, но потому что дефицит. Новые вещи тоже были, конечно, но мало. Я, в целом, была к вещами вполне равнодушна, но было у меня любимое красное платье. Сарафанчик, точнее. С кармашком на животе. Я его носила не снимая. Но всё равно пришёл день, когда я из него выросла. И мама решила отдать его бабе Лиде для внучки. Я рыдала, мама утешала, взывала к моему разуму, но разум спал. А инстинкт не хотел делиться. До сих пор помню свои слёзы, и мамины утешения, и то что платье мне, конечно, оставили, и то, что это было стыдно. Я ещё немножко поносила платье, больше смахивающее уже на маечку, а потом смирилась с тем, что выросла. А стыд вот остался — почти пятьдесят лет помнится.
И была баба Лида со мной до школы. Последние два года — только летом, потому что меня отдали в детский сад.
Когда я пошла в школу, мы уже не ездили в Коктебель, а сняли дачу в Подмосковье. Это была даже не дача, а обычный дом в обычной деревне. Деревня называлась смешно — Каблуково.
Новому месту — новую няню. Так появилась баба Шура — махонькая и сухонькая. Быть нянькой ей не понравилось, и на следующий год она сама привела к нам Полину Константиновну — соседку по казарме.
Да, обе женщины жили в казарме — хоть никогда не служили в армии. Сорок лет назад все маленькие города Подмосковья были уставлены Морозовскими казармами. Объяснение простое: все эти городки начинались с фабрик и фабричных посёлков. Шура и Полина в молодости работали на суконном (а, может, камвольном?) комбинате, и жили в рабочей казарме на Первой Советской улице. Улица и сейчас так называется. И, кстати, здание тоже цело. Только не знаю, живут ли там сейчас.
Я бывала у Полины в гостях, поэтому устройство казармы знаю изнутри. Коридоры, мощёные настоящим асфальтом, как на улице, шли насквозь через весь этаж и были широченными. По этим коридорам можно было кататься на велосипеде, и местные дети так и делали. По обе стороны были двери, ведущие в узкие пеналообразные комнатки чуть больше ширины окна. В одном конце коридора была уборная с умывальником, в другом — огромная кухня на десяток плит, и бог знает на сколько хозяек. Душа на этаже не было — он был один на всю казарму, в подвале, кажется. А, может, и душа никакого не было, я его выдумала просто, а жители казармы, скорее всего, ходили в баню. Как ещё по деревням своим привыкли — раз в неделю. Женский день, мужской день. Стирали на кухне в тазах и корытах, которые ставили на табуретки. Там же, на кухне, по-моему, и бельё сушили после стирки.
В комнате у Полины была кровать с сеткой, обеденный стол, пара стульев и хозяйственный шкафчик с припасами. Ещё была электроплитка, так что чайник можно было вскипятить, не выходя на кухню. У двери за занавеской висело пальто и ещё какая-то одежда. Няня моя была весёлая и выглядела абсолютно довольной своей жизнью и своим жильём. Предполагаю, что её комната могла казаться ей даже просторной, потому что дочь она вырастила тут же, а теперь дочь с семьёй давно жила отдельно в Щёлковской новостройке. Стены казармы были толстые-претолстые — об этом говорил широченный подоконник. Возможно, в те времена просто не умели строить тонкие стены. Но, как бы то ни было, соседей было совсем не слышно.
Примерно так же устроенный быт я видела и десятью годами позже — в общежитии первого меда, где жили несколько ребят из моей студенческой группы. Только в крошечных комнатках стояло по три–четыре кровати. И полы в коридорах не были асфальтовыми. А уборные, кухни и единственный на весь подъезд душ в подвале — это всё было. Есть ли такое сейчас в Москве, я точно не знаю, но на просторах страны есть наверняка.
Полина Константиновна была, как я уже говорила, весёлая, но грубоватая, разбитная. Не похоже было, что она глубоко задумывается над вопросами жизни, но все потребные ей ответы у неё всегда были. Она была готова шутить и смеяться по любому поводу, в том числе и над собой смеялась с удовольствием. Знала кучу поговорок и присказок, тоже порой грубоватых — «Чем в таз, лучше в нас», «Большому куску рот радуется», «Всё полезно, что в рот полезло!»
Чайную чашку называла «бокал», коридор был у неё «калидором», а табурет, естественно, «тубареткой».
Хозяйство вела без напряжения. В свободное время любила поболтать и поиграть в карты. В дурачка, в пятки, в акулину, в пьяницу — в самые простые игры. Болтала она в основном с каблуковскими старухами, о которых расскажу потом отдельно, а в карты любила играть со мной.
Чего она совершенно не переносила — это моего чтения. Я могла сидеть с книжкой часами, Полине было скучно и непривычно на это смотреть, поэтому она начинала ворчать: «Ишь, все кулитурные стали! Глаза сломаешь! С ума сойдёшь! Погуляла бы лучше!» Тема «кулитурности» развивалась бесконечно. Сама Полина книг не читала, не любила, не испытывала к ним никакого любопытства. Да и что могли ей дать книги? Истории о жизни она брала прямо из жизни — из разговоров с такими же фабричными работницами, какой была сама. Сомневаюсь, что она хоть раз после школы брала книгу в руки, да и сколько ей довелось поучиться, я не знаю. Писала она детским почерком, совершенно безграмотно, то есть безграмотно до совершенства. У меня до сих пор сохранилось несколько её писем, которые она писала мне, превозмогая отвращение к письменному слову.
Но были у нас с ней и общие увлечения, кроме уже упомянутых картёжных игр. И я, и няня моя обожали лес, причем есть ли в нём грибы и ягоды, никогда не было решающим моментом.
В дальний лес мы с ней вдвоём никогда не ходили — в деревне считалось, что там и волка можно встретить, и медведя. Поэтому туда ходили только большой компанией, когда приезжали родители. Но были у нас с Полиной свои, ближние и нестрашные, любимые местечки.
«Пойдём в берёзки погуляем!» — звала меня нянька после обеда. И я радостно соглашалась. Мы переходили дорогу, шли мимо церкви и кладбища, по высокому бережку над Ворей, в соснах собирали маслята, в «берёзках» — подберёзовики. У меня было и своё собственное место, куда даже Полина со мной не ходила. Это был крохотный участок обрывистого песчаного берега Вори, крутой, заросший карликовыми берёзами. Никто туда никогда не лазил — круто потому что — и под этими маленькими уцепившимися за песок берёзами росли крупные сухие и чистые грибы. Полина стояла на краю обрыва, а я ползала по склону, радуясь каждому подберёзовику. К этому месту мы с ней относились, как к собственной плантации. Шли туда и рвали грибы, как укроп к ужину рвут в огороде. Иногда я перелезала «козьей тропой» на утёс — отломившийся кусок песчаного берега, и сидела там, свесив ноги, представляя, что сижу на берегу Волги, а не Вори, глядя вдаль, на излучины реки и на заливные луга за рекой. Полина ждала меня на берегу и никогда не торопила. Думаю, что ей тоже нравилось смотреть на просторы.
Ещё мы с ней питали склонность к сомнительной кулинарии. Если бы в те времена существовал интернет, пропали бы мы совсем в наших экспериментах! Но поскольку интернета не было, то идеи мы брали из головы или из разговоров с окружающими. Вообще-то, едой нас исправно снабжали мои родители, которые приезжали по пятницам из Москвы с полными сумками, так что наши эксперименты служили не пропитанию, а развлечению.
Так, мы собирали, мыли и высушивали семечки арбузов, и грызли их потом по вечерам, считая самым лучшим лакомством. Или варили компот из ревеня, который приносила глухая старуха Грачёва. Сгущёнку, конечно же, варили. А однажды решили сделать воблу. Вобла в те времена была предметом детского культа. Любить её все любили, а купить было почти невозможно. Можно было самому наловить мелкой рыбёшки в Воре и приготовить. Но рыбёшки в Воре было мало, да у нас и удочек не было. Мальчишки вытаскивали иногда краснопёрку, но, скажем так, кэт-сайз. И мы отправились за рыбой в деревенский магазин через дорогу.
Подмосковные сельпо семидесятых годов заслуживают отдельного рассказа. Это был отдельный мир, не похожий на мир современных магазинов. Набор товаров в сельпо был очень странный: там было всё и ничего не было. Одновременно. Слова «логистика» ещё не было в обиходе, а логистика была. Странная только. Из еды постоянно можно было купить два–три вида крупы, каменную соль, серую и крупную, серые же отечественные макароны (а других тогда и в Москве не было) и сахар — песок и кусковой. Ещё полки были заставлены трёхлитровыми банками соков — почти все с мякотью, непрозрачные, кроме совсем уж прозрачного — берёзового. Мука тоже была, а ещё спиртное, маргарин и невкусная карамель с начинкой из варенья. Из мяса только сало, да и то не каждый день. Рыбу замороженную привозили. Дешёвую сразу раскупали, дорогая — морской окунь — лежала в морозильных ларях неделями.
Вот за окунем мы и отправились. Окунь был мелкий, зато нечищенный, голова его составляла почти полтушки, а глаза — почти полголовы. Солить стали по науке: сосед-рыбак подсказал, как тузлук сделать, как рыбку в спину иглой уколоть, залить тузлук из шприца. (В шприцах и иглах у нас недостатка не было). Долго окунь вялился, но, кажется, был вкусный. Не помню про вкус, потому что самое интересное было не есть, а готовить. Ну и гордились мы с Полиной страшно, что вот такие уродились рукодельницы! Всех ребятишек окрестных нашим окунем угощали.
Куда девались мои няни? Для меня они — ни живы, ни умерли. Понятно, конечно, что их давно уже нет на свете, но раз я не помню куда и как они ушли, то, может, где-то они всё-таки есть?