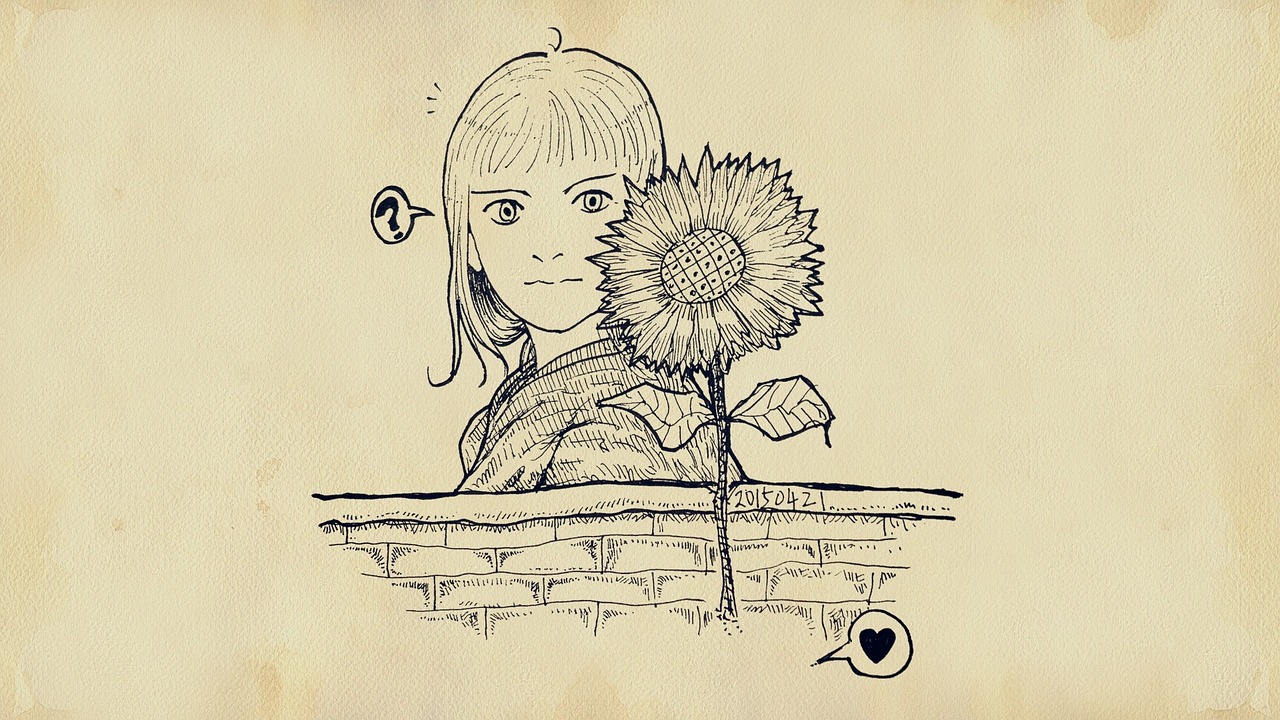Наверное, это страшный грех любить больше тех, кого нет, чем тех, что живы.
Но мне хочется вспомнить их, что давным-давно ушли, и тех, кто рассказал мне о них и тоже ушел вслед за теми, что давным-давно ушли.
Понимаю, туда не попасть, где была девочкой в белых колготах, где скакала на одной ножке между колен вечно занятых взрослых. А вот если попробовать вовсе невозможное да прийти к ним такой, какая теперь – с седою прядью не по возрасту, с таким взглядом из-под чёлки, что не всякий мужик на улице подойдет: «артистка что ли…». Или же нет, не стоит испытывать их сердца, истыканные бедами, как иголочные подушечки. Лучше объявиться неслышно, быть для них незаметной. Будто одолела их «куриная слепота» и к вечеру зрение резко, по-стариковски упало. И насладиться обществом моих «слепышей», голосами, неспешными разговорами, рассеянными взглядами: вроде ищут кого, вроде кто глядит сквозь светотени яблоневой листвы… Но, нет, выдыхают печаль: показалось.
Вот только такою, возрастной, и можешь оценить прожитое на вкус, посмаковать. Все прыгала и прыгала козявочка в сандаликах, грызла коришню с грушовкой и, казалось, «яблочное счастье» будет вечно.
И зашла бы я теперь с задков, нет, с улицы, через распашные ворота с низкой калиточкой, мимо золотых шаров, выгнутых аркой под тяжестью корон. Обогнула бы крыльцо Орловых и вверх, вверх мимо окон кухни, столовой, спален, за угол к трем окнам зала. А там уже все собрались – в предвкушении церемонии вечерних посиделок.
Замечали, сумерки несут в себе благость замедления времени? Сумерки укорачивают длинноты дня, дарят томность отдыха, радость всем ручным обитателям нашего сада — майским жукам, пожарникам, светлячкам, муравьишкам, лимонницам и шоколадницам, стрижам и ласточкам – радость побыть рядом с домочадцами в ниспадающей с еще светлых небес предвечерней прохладе.
Я б завернула за угол дома, прислонилась бы к косяку, увитому плющом-старожилом, пробивавшемся с жизнеутверждающей всхожестью на стыке асфальта и бетона каждым началом каждого лета. И замерла бы, не в силах стронуться с места от нежности, вставшей вдруг в горле сухим творогом: ни проглотить, ни выплюнуть. Вгляделась бы в морщинки на озабоченности бабушкиного лица. Это она встрепенулась первой и хмурит брови, вглядываясь в странно заколыхавшуюся в безветрии, почти выдавшую мое присутствие, крону ближайшего пепин-шафрана.
А Марь Афанасьна на лавочке тут же обижаться на бабушкину отвлеченность, «пардон, что же Лина Пименовна, Вы меня не слушаете…» И снова, в тысячу первый раз принимается напевать французские куплеты из своего дореволюционного пансиона. И Марь Власовна уже на законном месте, восседает на кресле-троне, венчающем семи-ступенчатое крыльцо, сетуя, не упустила ль начала.
В нашем доме прежде того, как Андрий Климыч купил его для юной супруги Лины, было расквартировано «Общество слепых». А нынче дома номер девять уже нет. Дом срыт с земли. И хорошо, что не при мне распинали. Я бы под бульдозер легла, под бабу чугунную подставилась, впечаталась бы букашкой в янтаре на дощатом его теле, я бы руки раскинув, к досочкам прильнула б, как с лёту ослепшая птица — пускай бы распяли!
Земли под домами нашей улицы понадобились городскому «Водоканалу» и тот готов был расселить жильцов по новым районам города. Но странные жители Духовой слободки не захотели покидать дома свои, вырубать яблони, что прививали еще саженцами, не пожелали расставаться, разъезжаться. И Юдины, и Коновы, и Звуковы, и Орловы, и Кудахтины, и Косаревы – все, будто выходцы одного землячества, требовали от «Водоканала», чтобы их заселили в новые дома вместе. Вскоре порушенная наша улица возродилась новостройками. Но это была уже не она, а какая-то совершенно иная, девственная улица старого города, не помнившая Духовой слободки, улиц-соседок, к ней примыкавших — Введенской, Садовой, Лазаря-Четверодневника. И надо же: именно на месте дома номер девять вылупилось урбанистически-нелепое розовое (розовое, понимаете!) здание банка. И ради того розового уродца был вырублен вишневый сад Звуковых и наш яблоневый, «проутюжены» механическими гусеницами огородные грядки, развалена и сожжена садовая беседка, выкорчевана орловская каланча-груша, порваны парниковые рогожи, изломаны в хлам качели, гамаки, садовые исповедальные скамьи самых темных зарослей, пущен в топку частокол забора вместе с еще живой повителью, не отцветшими граммофончиками вьюнка.
Кто знает, какой пустяк его отвлечет от главного?
Когда дом с земли срыли, я была за тысячу километров от города и от страны. И когда вернулась в свой город, уже не застала разгром и разруху. Старики были счастливы новосельем на улице Либкхнехта, снова ставшей Апостольской, как прежде, до бесовских переименований. Ну, что ж, простила миру, раз уж мои новоселы не горюют по разоренному «Обществу слепых» и ходят в гости к соседям по лестничной клетке многоэтажки: от Косаревых, к Звуковым, от Звуковых к Юдиным и обратно…
Но вот теперь я бы прижалась виском к косяку и слушала бы, и слушала, о чем они тогда в саду говорили, вычищая из спелой владимировки косточки мельхиоровыми такими щупами, будто хирургическими инструментами. За разговорами работа шла споро. Вишня быстро перекочевывала из одного десятилитрового ведра: с необработанной — в другое: с очищенной. Бабушка ловко орудовала шпилькой, вынутой из пучка. А руки и передники у товарок как у первоклашек: в кляксах фиолетовых чернил от густо-липкого вишневого сока. Марь Афанасьна рук не пачкает, раскладывает пасьянс за садовым столиком на витых ажурных ножках. И говорят они о той попрыгунье в белых колготах, с вишневыми кляксами на губах.
— У девочки прекрасный слух. Она моментально запоминает стихи на французском.
Это Марь Афанасьна.
— Так любая запомнит, повтори ей тысячу раз Ваши шансоны.
Это Марь Власовна.
— Вот Вы французского от одесского не отличите, сколько не повторяй.
Это Марь Афанасьна.
— Ничего из нее не выйдет… Пропрыгает всю жизнь стрекозою из басни.
Это мама.
— Нет, Козевна, определенно, станет актрисой.
Это тетя.
— Ни за что! В наш педагогический отдам. В столицах одно блядство.
Это мама.
— Я хочу быть Козеттой, а не Козевной.
Это я.
— А лучше б Козочке сыскать свое собственное — отмеренное. Пусть счастье ее никому не помешает, ни людям, ни Богу.
Это бабуля.
Я стою и реву, слезы размазываю кулаком вместе с поплывшей тушью ресниц. И подмечаю, как бабушка зорко следит за дедом, вышедшим из сада с решетом, полным коришни, мельбы, грушовки, и остановившимся перед скамьей под окнами зала. Дед пораженно уставился на угол дома, где я притулилась к шершавому плющу и обнимаю косяк, как после разлуки не чаявшего свидеться родственника.
— Ты что Климыч?!
Это бабушка.
— Да, вот они, варнаки, моду взяли! Тропу проложили по плющу. А я их логово сейчас кипятком…
Это дедуля.
— Тю… Пугаешь. Я сегодня чего-то итак теребленая, сама не пойму.
Это бабушка.
А дед уже несет жестяной чайник с огня. И я неохотно выбираюсь из своего укрытия, а то ненароком вместо муравейника в трещинах фундамента ошпарит мне ноги.
Досижу, еще побуду с теми, что давным-давно ушли, дождусь, пока спать не разойдутся. А по исцарапанной плющом мокрой щеке моей скользит ручной муравьишко из нашего сада. Но я не вижу рыжих лапок, только чувствую их бег, будто и сама сегодня слепа «куриною слепотой». Пусть ползет. И пусть женщине, уткнувшейся в коленки, процедит прохожий сквозь зубы «пьянь подзаборная». А я вслед ему возражу, «ну, почему ж подзаборная…» и, не распрямляясь с карачек, отодвинусь от розовой отштукатуренной стенки банка. Только прохожий уже не расслышит, не оглянется.