Все надо было сделать не так.
Когда до меня дошла очередь на том чертовом семинаре, на котором мы сдавали вам, почетному профессору, «секс-бомбе отечественной словесности» (согласно открытым источникам), наше опалённое и болезненное из самой требухи в качестве этюда, надо было разгладить на парте листок бумаги, какой-нибудь на вид жеваный, как из задницы, и прочитать:
«Тарелка из-под винограда. Белая тарелка с веточками, косточками и одной единственной уцелевшей ягодой. Она стояла на лакированной столешнице в арендованной посуточно квартире неподалеку от дома-музея Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. Ни одно воспоминание не причиняет мне большей боли.
Ни то, как вы криво усмехнулись над моим стихотворением – слабым, хрупким, как новорожденный; ни то, как после презентации книги вашей студентки К. вы брезгливо отодвинули пустую коньячную рюмку, заподозренную в том, что я из неё пила; ни ваша ладонь с глубокой, грубой линией сердца, которой вы чуть ли не били мне в лицо всякий раз, когда вам казалось, что я взглядом что-то у вас выпрашиваю.
Ни «пирог ваш, деточка, говно», не тихое, сквозь зубы «хочешь меня, да?.. шлюха!»; ни то, как ритмично, сладко и жестоко вы сжимали мое предплечье, когда мы неслись с презентации К. на её домашнюю вечеринку по февральской оттепели – вы, я и какой-то приблудный Дима с повадками Димона, и никак не могли отыскать нужный дом. Вы еще придерживали Диму под локоток и каждые полторы минуты переспрашивали, не педик ли он.
А потом вы медленно слизывали со своего двуперстия капли виноградного сока, глядя мне между глаз. А потом – перекошенная в гримасе, и оттого еще более невыносимая ваша красота, когда вы дразнили меня, вывалив язык – типа как тупая ты, деточка, мокрая псина – дразнили в присутствии пятнадцати не таких уж пьяных свидетелей, часть которых, преимущественно молодые парни, пили в тот вечер больше воды, чем спиртного. А потом вы громко, чтобы никто не пропустил этого, сказали Диме с повадками Димона: «Это потрясающе, я на шестом десятке, а вы меня так хотите, и всегда будете хотеть только меня», и ваш бойфренд, подающий надежды манекенщик, впервые за весь вечер открыл рот и пробубнил, что это неприлично, а я всё ждала, что вы вспомните обо мне, пусть и для новой издевки.
Все это – не самые глубокие мои шрамы от ожогов.
Но когда праздник у К. закончился, и я осторожно шла домой через пустой центр по наледи, запорошенной снегом, то почти не замечала того, как щиплет оборванные до крови заусенцы, потому что думала о тарелке из-под винограда, куда вы обильно сплюнули пузыристой, прозрачной слюной. К. быстро отнесла ее в мойку, а я так и не успела незаметно обмакнуть туда последнюю уцелевшую сизую виноградину и спрятать во рту, пока остальные гости толкались в прихожей.
По пути от Борисоглебского до моей Пушкинской площади я снова и снова вспоминала об этой упущенной возможности; и том, что для меня это была – возможность, и гордость моя дымилась, оплавлялась, пахла паленой шерстью и мясом, просто от того, что от неё, от гордости моей, что-то еще осталось, живое, как кожа скотины, на которую пастух ставит тавро».
Вот, какой этюд надо было написать и сдать вам. Но на том семинаре я зачем-то прочитала другой текст, слабый, уязвимый, как новорожденный, и это было стихотворение о том, что вы, старая коза, «волшебник» и «Царица Ночи».
Может, оно и к лучшему. По крайней мере, я всегда была с вами откровенной. Не знаю, почему именно с вами.
Наверное, потому что вы – волшебник.





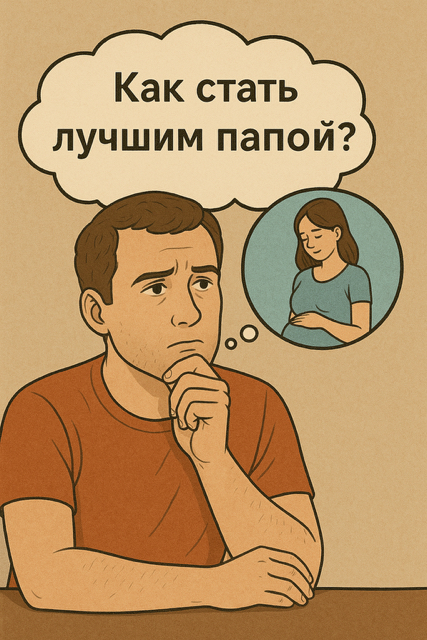











Ну почему я думаю о Воденникове! ))))