Обезумев за неделю от чтения романа «Игра в классики», я все же решил отвлечься и освежить помутившееся сознание полуденной прогулкой. Все праздничные дни, едва проснувшись, я судорожно подтягивал за провод ночь заряжавшийся мобильник. Оживлял его и до позднего завтрака (в районе одиннадцати) с дотошностью юного библиофила перечитывал одни и те же главы романа великого магического реалиста. Я водил указательным пальцем по экрану своего старого корейского смартфона с лопнувшим паутинкой стеклом и, перелистывая страницы не тускнеющего шедевра постмодернистской литературы, погружался в мир иллюзий, который каждый раз порождал во мне какое-то неясное беспокойство. С первых, перетасованных как карты, глав романа, я завидовал главному герою – дорисованная моим воображением простушка Мага, конечно же, очаровала и меня – и с каким-то упрощённым представлением о мужском тщеславии я наслаждался чувственным повествованием о парижской жизни главных героев романа. Потому что в моём, грубо и неуютно устроенном самой жизнью романе, оказалось так мало занимательного и продуктивного. И там нет и, как бы я того не желал, никогда не будет ни погрязшего в пирушках Парижа, ни клуба фанфаронов словопрения и даже близкой мне по духу женщины, с которой я, по чистой случайности, хотя бы однажды пересёкся во времени и пространстве.
Всякий раз, замирая у утреннего окна с кружкой пахучего колумбийского напитка и рассматривая летних пешеходов, то спешащих, то бредущих по своим важным и пустяшным делам, я предаюсь мечтам. Строю несбыточные планы, как будто допускаю мысль, что в моей ленно текущей жизни могло быть как-то иначе. И, будто стоит мне засунуть ноги в разношенные китайские кроссовки и переступить порог прихожей, то я нежданно обрету способность заглянуть в какие-то совсем неведомые мне пределы. Как погруженный в себя Орасио Оливейра – не боясь, что кто-то в облюбованной котами подворотне сжимает в руке нож – я добреду до реки, одолею выгнутый над водою пролёт и сквозь полумрак, с трудом различая соломенную фигуру, подойду к ней, так, словно это самая желанная встреча в моей жизни. И тогда, опьянев от пепельно-оливкового воздуха, мы будем бродить по парижским улочкам, словно час назад случайно нашли друг друга. И тонкое лицо Маги с нежной прозрачной кожей будет светиться, а в карих глазах дрожать рожок молодого месяца. Потому что, выбравшись на ночь глядя из своих постылых коммунальных комнатушек, измученные оглушительной тишиной одиночества, мы разговоримся и тут же попадем под ливневый дождь, под одним старым зонтом, который потеряем, когда целуясь увлечёмся и не заметим, как его подхватит ветер и он корабликом с приспущенным парусом умрёт достойным образом, гордо черпанув тряпичным бортом неспокойной речной воды. И тогда мы, похожие на мокрые каштаны, немного взгрустнём о последнем пристанище нашего старого зонта и, замерев с чуть-чуть растерянными лицами, станем греться телами друг друга. Смахивать руками дождевые капли с лиц и соприкасаться влажными, чуть терпкими губами, как у маленьких детей объевшихся тягучей виноградной карамели. А затем, облокотившись на перила моста, станем по очереди придумывать смешные и грустные истории, разыгрывающиеся за зашторенными окнами чужих спален в отходящих ко сну домах. Потому что, оказавшись в сердце города, как могло бы случаться бессчётное количество раз, я уже не сомневался, что эта встреча может и должна подарить мне и Маге наш единственный шанс, которого возможно мы не заслужили, застряв в придуманной мною жизни, на расстоянии пятидесяти лет друг от друга. Потому что всё, что в нас произошло, когда мы без конца переходили с улицы на улицу, и породило те самые нежданные ощущения восторга, лёгших в основу первых станиц романа Хулио Кортасара. И я прекрасно понимал, что разглядывая мою влажную ладонь, Мага не станет обещать мне какую-то дальнюю дорогу или несбыточные радости. Поскольку побоится, что я увижу в её глазах правду о себе. И тогда, немного смущаясь, она будет прятать эту правду от дождя, и от меня за прижатой к губам ладони. И я, дурачась, буду невольно ей подыгрывать и отрывать её руку от лица, прекрасно понимая, что не увижу в беззвучно шевелящихся губах ничего настоящего, как в том магазинчике – с какой-то чепухой выставленной в плохо освещенной витрине – в который Мага затащила меня, чтобы переждать утихающий ливень. А потом, на расстоянии двух крепко сцепленных рук, я, как ребёнок, буду обиженно плестись за Магой, пока она, стряхнув два квартала разлучавшую нас немоту, на всю улицу не рассмеётся, и, обвив мою шею слабыми, мокрыми руками, нежно прижмется и, глядя мне в глаза, погасит резко смех и легкую улыбку, как только что подкуренную ментоловую сигаретку и, наконец, поделится со мною сокровенным, шепнув на ухо, что её любимое время – ночь. И шальной ветер, тотчас подхвативший её тихие слова, будет больно сечь наши лица дождём отречений и разлук, по мотивам раздерганного на мелкие сцены нашего романа. Того самого, уже пожелтевшего от времени романа, дописанного Хулио Кортасаром спустя пять лет после моего дня рождения. И я уже в который раз буду спрашивать себя, почему я – будто в долг – так безнадежно мало жил столько её любимых, удивительно прекрасных ночей. На исходе которых мы только и делали, что мучительно долго мчались на одном велосипеде через оживавший предрассветный Париж. В поисках той самой первой попавшейся нам когда-то на глаза гостиницы, чтобы бы поскорее добраться до нашей остывшей с утра постели…
Ещё раз, оценив картинку за окном, меня стало подъедать желание плюнуть на свежий воздух, на что-то неясное и сомнительное, что могло выйти из моей прогулки, и даже отступиться от затеи. Кулем завалиться на незаправленную кровать и распустить свои мысли, как какое-нибудь коалиционное правительство, окончательно погрязшее во вранье. Предаться простому дуракавалянию, забыться и не пялиться на экран телефона, чтобы хотя бы на время отказаться от очередной попытки поцеловать время через героиню романа, даже ради совершенно бредового рассматривания грубого набела на потолке. При том, что я прекрасно понимал, что удовлетворения от этого не будет, и я не буду сердцем увлечён этим нехитрым занятием, видя в барельефных слоях краски занимательные светотени несовершенных фигурок диких животных или профили и лица незнакомых мне людей. Поэтому я без сожаления отмотал это желание назад, подошёл к стулу со сваленным на него сезонным шмутьём, и с остекленевшим взглядом, как у старой плюшевой игрушки, принялся неспешно одеваться. А в конце непродолжительной возни, натянув на потный торс майку с надписью: «Всё пох…», открыл входную дверь и сделал уверенный шаг в объятия прохлады лестничного амбре.
Я никогда не принадлежал к тем несчастным, кому стоило ступить на какой-нибудь речной мостик или узкий переход через шумный ручей, как эти, казалось бы, надежные сооружения, тут же рушились у них под ногами. Хотя бы потому, что за пятьдесят лет моей главами перепутанной жизни, больше похожей на бесконечно спаривающихся змей, со мною такого прежде не случалось. И если мне всё же приходилось входить в воды рек и ручьев, то я ступал туда вполне осознанно, а не по воли нелепого случая, прихоти или искупления. Вот и чёрную мятую майку с лоснящимся белым слоганом я надел, желая почувствовать бесовский трепет от возможности пощекотать какое-то странное и такое не однозначное чувство собственной исключительности, с утра пришибленное смертной скукой жизни…
В тенистой прямой, как шпага, городской аллее – разрезавшей овальный парк на две асимметричные сердечные дольки, моя грусть лишь усилилась. А в голове с покачнувшимся синим небом появились слезливые свинцовые тучи. И тут же кто-то неведомый с каким-то иезуитским наслаждением вдруг принялся терзать мой слух, исполняя на расстроенном, с западающими клавишами, пианино то мелодии Шуберта, то прелюдии Баха, вторя своей неидеальной игре низким, пропитым в хлам голосом. И мне стоило большого труда отвязаться от этого мрачного наваждения и усилием воли смести это бредовое и неблагозвучное шоу в дальние закоулки моего, крайне чувствительного к насилию, сознания. Наконец, переключиться на реальность и, едва не растеряв способность мыслить конструктивно, осознать что всё, что я задумал – натянув на себя чёрную трикотажную майку с большими белыми буквами, прилипшими прорезиненной изнанкой к сердцу – невольно превращается в какую-то умственную отрыжку, истощавшую мою жизнь в бессмысленных диалектических метаниях. Хотя бы потому, что тягучая карамельная глупость тех самых высокопарных ожиданий, ещё с утра казавшихся мне всего лишь милым умеренным неприличием, с каждым шагом по мокрой, будто озеркаленной утренним дождем, аллее, оборачивалась каким-то жутким кошмаром, бесцеремонно целующим меня против воли в плотно сплюснутые губы. Возмущённый, я мотал головой и, отплёвываясь, прекрасно понимал, что всё это не то на что я рассчитывал и свою Магу, среди встреченных благообразных старух, выгуливающих своё внучатое потомство, я искать не хочу. И никогда не буду, потому что то прекрасное и, увы, сомнительное искушение, которым я вконец измучил себя, шаря глазами в поисках чуда, меня, возможно, никуда не приведёт. Не изменит частоту биения моего сердца под надписью «Всё пох…», хотя луны уже столько раз сменяли друг друга. Потому что я навсегда останусь прежним, и в каждой встречной девушке мне будет постоянно мерещиться Мага, созданная моим упрямым воображением.
Конечно, я вполне мог бы уверовать в то, что не видел своими глазами и, повинуясь лишь знакам ночи, захватившим моё сознание с первых строк романа, с особым упорством встраивать эту искусственную модель бытия в реальный процесс моей непутёвой жизни. В этот нескончаемый процесс моей сомнительной самоидентификации, из-за которого я, словно сбившийся с пути странник, раз за разом терял рассудок и спасительный горизонт, изрезанный вечно текущими барханами… И я остановился. Резко оборвал поток ложных ожиданий вынесших меня из дома и, ещё не до конца уверенный в себе, решил пресечь смуту в голове и дотянуть пусть даже в этом зыбком здравии до нашей с Магой ночи.
Заприметив через дорогу облезлые двери рюмочной, я тут же свернул с аллеи, продрался, больно оцарапав руки, сквозь плотные кусты шиповника, перелез через метровую чугунную ограду и, пробежав двадцать асфальтированных метров под злую какофонию клаксонов, оказался в центре загаженного водочным дурманом мирка…
Несмотря на ранний час, в зале вокруг нескольких высоких столиков уже топтались силуэты, связанные как магнит и железные опилки с этим простеньким питейным заведением, воскрешавшим мужиков, не перенёсших муторного похмельного одиночества. В плотной табачной пелене, приправленной запахом пережаренной картошки, со свету я не различил ни здоровых лиц, ни внятных человеческих речей, лишь едва уловимое дыхание непрочной душевной радости, слабо теплившееся в разрушенных жизнью жизнях. В продолговатом зале, больше похожем на деревянный ученический пенал, было неуютно. Но, поборов легкую растерянность, я обошёл хмурых посетителей и прильнул к стойке бара, за которой в белом кружевном ободке и фартучке времён советского застоя суетилась горластая буфетчица. Из её чёрных возмущённых глаз, как из горящих окон дома, вырывались языки пламени. Они обжигали покатую спину щуплого пьяницы, которого предательски морил тяжёлый хмельной недуг. Сложив руки на столешницу, он уже мостил на прозрачных запястьях своё мятое безрадостное лицо, но буфетчица, открыв рот, резко встряхнула мужичка отлитыми в грубую, площадную форму, словами.
– Я, б…, там не поняла! Мы чё, сюда спать припёрлись?!.. Ещё раз увижу, что рожей стол подтираешь, сразу вылетишь отсюдова! И мне пох… что у тебя баба – сука, понял!..
С наступлением пьяных сумерек всё покатилось к чертям, и я оказался на каменистом дне собственной глупости, плюхаясь то ли в мелководной речке, то ли в шумном ручье, приваленный обломками придуманных мною сегодня забав. Изрядно выпив, я невольно осознал, что переоценил прочность своих душевных сил и, обхватив голову руками, с какой-то неодолимой, муторной тоскою уставился на горластую буфетчицу, которая без тени приязни время от времени косилась на меня. Но я нарочно ловил её взгляд. И уже сам себе казался странным существом, выпустившим из рук свою неочевидную реальность. Невероятно зыбкую реальность, ради нескольких водочных глотков в галлюциногенной атмосфере рюмочной. Потому что, в какой-то момент мне вдруг начало казаться, что и у моей Маги вполне могли быть такие же горящие пламенем глаза, как у этой злой буфетчицы. Возможно даже губы, мягко дрожавшие от возмущения, ведь и у нас с Магой не раз случались невесёлые деньки. Наконец её голос – голос Маги – похожий то на плёс вечерней серенады Шуберта, то на рокот органной токкаты Баха, вполне мог на этот вечер вселиться в эту, издерганную чужими жизнями женщину.
Меня невольно разморила ностальгия и я, как лист, подхваченный тёплым ветром воспоминаний, на доли секунд оторвался от действительности. И, обнимая свою вымышленную Магу, эту принявшую образ буфетчицы туманность, вновь загрустил, но яркий бархатный баритон резко оживил меня. Популярная партия тореадора из оперы «Кармен» слоном вторглась в лавку моего уныния. Она невольно отвлекла моё внимание от буфетчицы, оставшейся совершенно безучастной к исполнителю, надсадно певшему с нотками едва уловимой фальши. Я тут же развернулся и с интересом посмотрел на выскочившего из-за невидимых кулис мужчину средних лет… Приняв театральную позу посреди зала, он с жаром оперного премьера старался во весь голос. Серая майка под распахнутым плащом не скрывала тату лубочного амура, замершего на его впалой, не оперной груди, в которой зарождались звуки иберийской ночи. Нагоняя мистическую мощь с искусственно сумеречным лицом он размахивал полой серого дождевика, будто действительно пытался заманить в ловушку разъярённого быка. И этой нарочито грубой театральной площадностью отчаянно хотел привлечь мутное внимание здешних мрачных выпивох. Но спев первый куплет, эскамильо невольно сник и потерялся в диком одноактном спектакле и дальше гордо пел уже будто в себя. Он наглухо упёрся внутренним взглядом в вознёсшуюся до небес, и существовавшую только в его голове какую-то нечеловеческую тоску и, словно обезумевшее животное, несколько минут отчаянно задыхался, вскрикивал и страдал, пока резко не обмяк, взяв последнюю высокую ноту…
– Привет, меня Кириллом зовут! Соточкой не разогреешь?!.. А то, чё-т не в голосе я сегодня!
С холодным заискивающим лицом Кирилл замер напротив меня. От неожиданности, будто он прижёг мне руку сигаретой, я едва не вскрикнул. Навалившись на мой столик Кирилл медленно поднёс тлеющую сигарету к плотно сомкнутым губам, но рта не открыл. Не знаю, ждал ли он от меня немедленного исполнения заявленной им щедрой зрительской благодарности, но на всякий случай, будто метлой, смёл со своего худого лица недобрую улыбку и замер. Сигарета театрально умирала между его средним и безымянным пальцами и пепел, скукожившийся дугой, походил на обуглившийся хобот несчастного бутафорского слоника.
– Да ты не напрягайся! Это я так!.. Вижу что ты тут впервые, ну думаю, чем чёрт не шутит! А то у этой алкашни снега зимой не выпросишь! Народец тутошний в плане сочувствия – глух! Каждый, так сказать, лишь о своей проспиртованной душонке печётся…
Я окончательно очнулся, но входить в положение этого, на самом деле, молодого мужчины, от которого разило разбавленной табачным духом водкой, у меня не появилось. Не лишённый, как мне показалось, нахальной и прямолинейной, как у уличных приставал, вербальной агрессии, он, не отрываясь, смотрел на меня, как голодный сомик, прилипший к аквариумному стеклу… И я, мучаясь, сдался.
– Добро! Закажи себе, я оплачу!
Я уже хлебнул чёрного кофе, но ясного сознания не вернул, потому что помахал буфетчице кредиткой, когда она стала гнать моего нового знакомца, словно он ошибся гостиничным номером. Возобновив с буфетчицей мирный диалог, Кирилл, улыбнувшись, легко посмотрел на меня. В его глазах, ещё секунду назад резко потухших, мелькнул неподдельный, ребячий восторг и он, уверовав, будто этим вечером, наконец-то, выбрался из застенков своего мрачного лабиринта, выставил вверх большой палец правой руки и громко выпалил.
– Всё норм, чувак!
Впервые взглянув на Кирилла – когда он во весь голос заявил о себе в центре зала и своими танцевальными па вызвал у меня лишь грустную улыбку – я отметил, что его левая, чуть согнутая в локте рука, за всё представление ни разу не покинула карманный каземат в мятой поле плаща. Оттого все его однобокие, неестественные движения во время исполнения арии тореадора, были какими-то неуклюжими и неживыми, но только теперь, когда он довольный вернулся, я понял причину – вместо белокожей кисти из левого рукава выглядывала чёрная пятипалая плеть.
Готовый утешиться водкой, он выставил на стол графин в лёгкой изморози. Затем выудил из кармана две сложенные одна в другую стеклянные стопки и, навалившись на столешницу с какой-то нелепой детской радостью, подпёр своё довольное лицо обеими руками. Выглядело это зрелище дико. Но оторопь, застывшая в моих глазах его нисколько не смутила, он перевёл взгляд на свою увечную руку и, не дожидаясь, когда я оживу, с полным безразличием произнёс.
–А!.. Это?!.. – и тут же сухо продолжил:
– Это всё по дурости… из-за неразделённой… ну типа, силу воли проверял!
Я удивленно округлил глаза, выдержал неловкую паузу, а когда понял, что пояснения не будет, спросил в лоб.
– Ну и как?
– Как видишь! Жив ещё, дурилка!
Его кантиленный, обволакивающий слух баритон, даже в этих коротких фразах звучал естественно, без примеси какой-то напускной, дешёвой бравады и фальши, и я понял, что не один год Кирилл усердно репетировал – под присмотром вечно пьяного режиссера – свою незавидную, трагическую роль, прежде чем сегодня уверенно подойти ко мне.
– Как ты, наверное, уже понял, я сам из певцов буду… «консу», правда, не закончил, но огранённый баритон имею! А в нашем деле, как когда-то сказала выдающаяся оперная дива Медея Ивановна Мэй: «Настоящий баритон такая же редкость, как и настоящий мужчина!»
Кирилл залпом выпил и, горько сморщившись, продолжил:
– И если ты не какая-то опереточная дешевка, то этой прекрасной максиме, хочешь, не хочешь, надо соответствовать!..
Глядя в его ожившие глаза, я, почти забыл о романе, об играющем своими парижскими героями Кортасаре, наконец о магической Маге, где-то потерявшейся в ночи. Приглушив дыхание я невольно заслушался речью Кирилла, и уже не чувствовал своей, быстро затёкшей, левой руки. Влажные подушечки пальцев слились со стопкой потеплевшей водки, которую я держал перед собой, тяжело облокотившись на стол. Я слушал и боялся шелохнуться, чтобы ненароком не спугнуть поток слов, тянувшихся словно перелётные птицы, которых Кирилл не спеша нанизывал на невидимую нить своей открытой истории жизни.
– В моем случае как, я надеюсь, ты уже сообразил – соответствовать этой максиме мне не так уж сложно!
Он действительно был высок, строен. И, если бы не его опухшее лицо и потрёпанная, хоть и чистая, одежда, то Кирилл вполне мог сойти за вполне привлекательного и не обделенного дамским вниманием мужчину.
– Я, знаешь ли, всегда пользовался вниманием у женщин! Сам же, признаюсь, вёл себя с ними, как дебиловатый жеребец. Мало ценил, зная, что в подворотне не зарежут за мою, скажем так, ненасытную мужскую натуру. Так что, чувак, до двадцати пяти я видел мир исключительно в радужных тонах, пока не встретил…
Он выпил водки, и я увидел, как его передёрнуло, будто по лицу пробежала стайка больших мучных тараканов.
– Ну, словом, втрескался! И самое смешное – безответно!.. И на все мои амурные притязания, она не то чтобы никак не отвечала! Она просто избегала меня как огня! Будто я квазимодо какой-то, без рук, без ног с одной извилиной в башке! Короче, я для неё как бы не существовал, и чтобы я не делал… А в свои-то годы, что я только себе не позволял – романсы, цветы, шампанское рекой, ну и отрывался естественно… простыни к утру, хоть выжимай! А тут, вообрази, такое…
На несколько секунд – не сдвинувшись с места – он покинул меня. Чуть склонил голову, и в какой-то момент мне даже показалось, что я отчётливо видел, как он старательно тасует выуженные из закоулков памяти нужные, налитые непереносимой горечью, слова.
– Но главное меня начали подначивать… так подленько. Ну, типа, получай, фашист, гранату! Причём прилетало не от кого-то там … ну я не знаю… а от пацанов, с которыми на горшках в садике сидели! Представляешь, от друзей! И каждый норовил побольнее за живое поддеть, вспороть и кишки наружу выпустить… А я ведь просто человек! Понятно, что не без грехов, но вот так… не ожидал! И дрался я тогда нещадно, чуть ли не каждую неделю… все кулаки посбивал! До крови! Не без потерь, правда… За месяц не только друзей… но и… вон глянь, зуба лишился!
Он засунул в рот согнутый крючком палец и ловко оттянул вверх мокрую от водки губу – вместо левого верхнего резца зияла черная дыра.
– А ей хоть бы что, хотя прекрасно знала, чего я так бешусь! Спать нормально перестал, ну и всё такое… от расстройства! Вот тогда-то к водочке-селёдочке понемножку и пристрастился, даже домой к ней как-то под мухой пробовал вломиться… не открыла конечно! Ну и завёлся, как придурок. Стёкла в подъезде переколотил! Зверюгой орал на весь двор!.. И ничего!.. Ну и это… я как бы даже надломился! Сам себя не узнаю! Типа, тварь я какая-то бесхребетная, а не мужик!.. Одним словом, драма!.. Вот и перемкнуло! Чё тогда нашло – не знаю… Короче, печечку на родительской даче затопил и засунул руку по локоть в огонь. Боль адская, сижу-терплю из последних сил, а в башке вертится херня всякая, типа: «Врёшь, сука, не возьмешь!»
Кирилл одну за другой выпил три стопки водки. Сморщившись, задержал дыхание и в поисках закуски быстро обшарил пустой стол, дикими голодными глазами. Расстроившись, мотнул головой, поднёс ко рту запястье и глубоко, со свистом вдохнул.
– Ну а потом всё как в дыму, больница, операция, культя, ну и венец – вот эта пластмассовая перчатка!.. Только кому её теперь в лицо бросить – сам и виноват…
Он совсем захмелел. Хотел закурить, но передумал. Обернувшись к буфетчице, вытащил изо рта надорванную папиросу, которую стрельнул за соседним столом. Картинно набрал грудью воздух и, прижав к губам белый картонный мундштук с пьяной удалью, резко дунул в него. Табачные крошки однодневными мошками полетели на огонёк к зло побагровевшей буфетчице. Кирилл скорчил ей рожу и, тут же примирительно, как проигравший драку заморыш, вскинул вверх руки.
– Ну а самая дичь… случилась чуть позже. Пришла она ко мне на следующий день после операции в больничку. У меня отходняк от наркоза… Рука ноет – сносу нет. Я её и так и эдак пристроить пытаюсь, да ещё голова не голова, а сосуд с муторным токсичным дерьмом!.. А тут она вся такая, ну очень печальная, там цветочки-мандарины, и жалость рекой! Чё-то так мило и много лепечет!.. А, уходя с крокодиловыми слезами, заявляет: «Чё же ты дурак наделал?». Мол это, какая-то засада лютая!.. И тут же так весьма печально итожит, что я ей всегда очень нравился и всё такое… но только теперь за однорукого калеку она замуж точно не пойдёт!.. Такая вот, б… , Кармен!»
После третьего графинчика Кирилл заснул прямо за столом. Я подошёл к стойке бара, чтобы расплатиться. Уставшая за смену буфетчица, усмехнувшись, кивнула в сторону моего нового приятеля и нехорошо спросила:
– Чё опять свою пургу с печкой нёс? Проняло?.. Это он умеет– талант! Порой так расхорохорится!.. А руку это он по пьяни, позапрошлой зимой отморозил, а теперь прикидывается оперным премьером и страдает по рюмочным, как полевой соловей!
Этой ночью Мага ко мне не зашла.
Я видел, как она неспешно, будто по топи, прошла под окнами моей спальни в шуршащем болоньевом плаще, пахнувшим только что прошедшим летним лёгким дождём. И я тут же представил её мокрое лицо, с прядями тонких, робко вьющихся каштановых волос, налипших на её лоб, на щёки, на перламутровые, пахнущие карамелью губы. Остро почувствовал, как она сдержанно дышала, будто видела меня, замершего за шторой, и двигалась медленно, опасалась этой последней ночью меня ненароком раздразнить. Всполошив во мне прекрасную идиллическую чепуху, всю неделю вскармливающую медом мою, окрылённую радостным предвкушением, исключительность. Ту, которою только теперь, этой ночью в приплюснутом тучами городе Мага решилась остудить нежной влажной пощечиной. Так, что бы я, видя, как она удаляется, не поддался наваждению, а уткнувшись лицом в холодную гладь стекла заглушил крик сжатыми до синевы губами. Чтобы окончательно смирился и перестал ждать, что Мага, подняв к ночному небу вспыхнувшие на миг глаза, зайдется под моим окном безудержным медовым смехом. Так похожим на липкие, протяжные гудки заплутавшего среди песчаных отмелей старого колесного теплохода. Потому что прекрасно знает, что отчаянно спасаясь, я буду, как ненормальный, карабкаясь взбираться по призрачным сходням, цепляясь за её соломенную фигурку своими слабыми от волнения руками… Но я знаю, Мага не откликнется. И прихлопнув ногой истлевшую ментоловую сигаретку, собрав все, изнанкой прилипшие к сердцу, слова, она прокричит на весь город, что наша с ней безумная ночь закончилась. Закончилась какой-то чёрно-белой музыкальной открыткой на костях с бурлацкой, невыносимо муторной песней, прижавшейся предрассветным туманом к холодной неспокойной реке… И, мягко выскользнув из меня, из моих, достигших губительной полноты и глубины, переживаний, обернувшихся теперь прощальным проливным дождём, моя Мага ловко раскроет дамский зонтик над своей головой. И не прощаясь, тихо растворится в темноте, поведав мне этой, будто нечаянно оборвавшейся действительностью, что её свобода – единственное, приличное к её любимой ночи, платье, которое всегда будет ей к лицу…


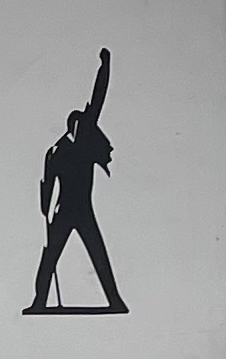














Яркий, незабываемый стиль!
Многосложный и интригующий!
Одухотворенный и дерзкий!
Литературно и сценарно!))
Яркий, незабываемый стиль!
Многосложный и интригующий!
Одухотворенный и дерзкий!
Литературно и сценарно!))