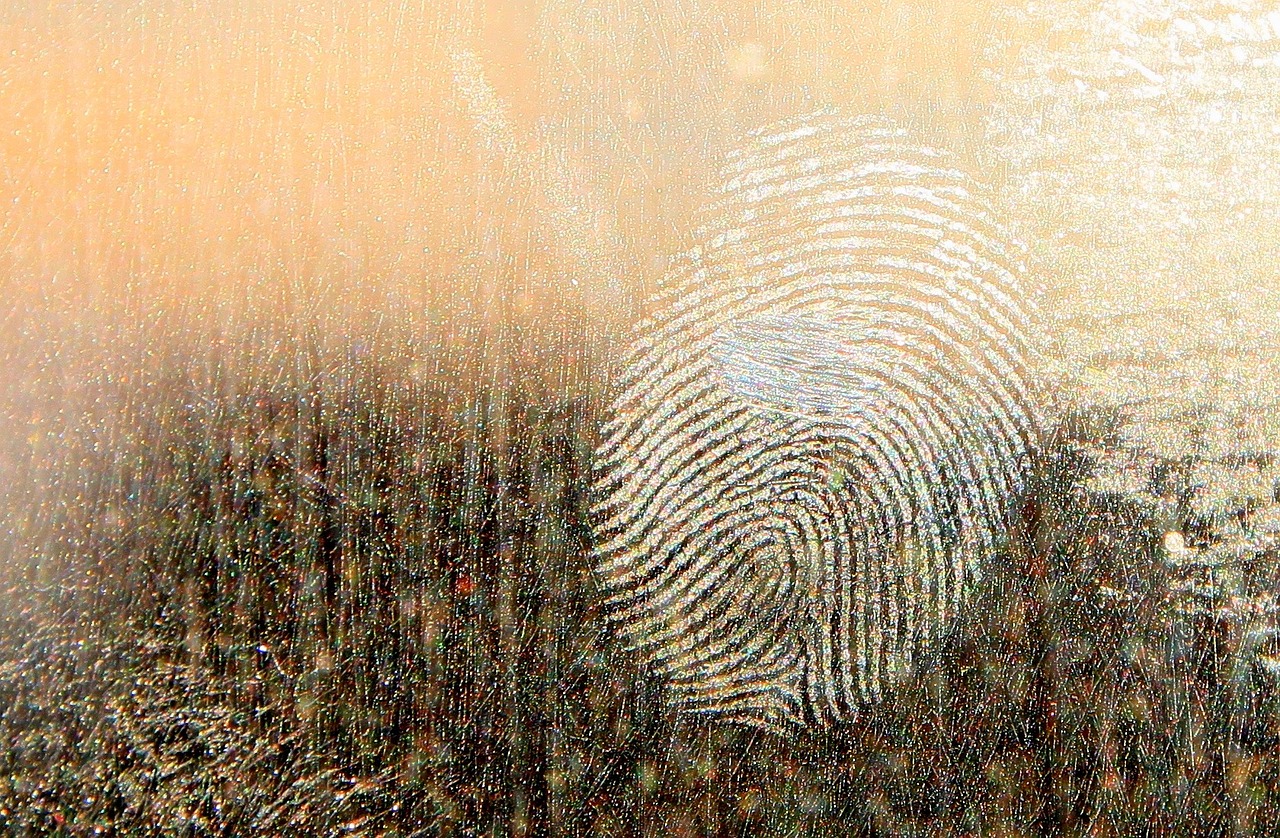Июль был холодный, как сентябрь. Вот и август начался с дождя, и деревья от бесконечных ливней поседели и постарели раньше времени. А где-то, в трёх часах лёта, — море и солнце, море и солнце, на террасе под белым солнцем покрытый белой скатертью стол, и запахи горячего хлеба и кофе, и тишина, и покой.
Между тем, закончился длинный рабочий день, похожий на другие длинные дни, с комплексным обедом на выбор: номер один и два, мясное и рыбное. В мясном почему-то вместо компота полагалось кофе. Она брала мясной, хотя, следуя вегетарианской моде, не ела мясо. Обедали всем отделом в столовой с долгим советским прошлым: увядшие пальмы в кадках, тяжёлые стулья с бархатными сидениями, бордовые ковровые дорожки, окна в многодневном тюле. Котлетный дух вместе с компотным и суповым поселились в столовой навечно.
— Котлета коту, — шутил начальник, когда она перекладывала котлету в коробочку.
Котлета и правда была для кота, прижившегося у охранников. И зачем она приносила её, сама не знала. Она была равнодушна к кошкам вообще, и кот охранников не составлял исключения. Пушистый, неласковый он жадно ел котлету, и был неприятен ей вместе с котлетой.
С утра болело горло, к концу рабочего дня поднялась температура.
Люди в метро наваливались спинами, запахами, волосами, всеми порами и прыщами одинаково неприятных лиц. Иногда она видела, как мелькало в окне вагона, заслоняемое другими отражениями, её собственное лицо.
На Курской она не стала пересаживаться на Молодёжную, а поехала дальше до Смоленской.
Он не сменил номера. И голос его привычно сказал «алло», с той же интонацией одиноко живущего человека. Она сказала: «Я рядом с твоим домом, мне нужно зайти на пять минут».
Семейной жизни предшествовало тихое ухаживание. Он заезжал за ней на работу, ей тогда только исполнилось двадцать четыре. Он был старше на шесть лет, и она не понимала, как это мало. Часто сидели в его машине, курили в окно, шёл тихо дождь, она пила шампанское, и, слегка пьянея, вспоминала, кого любила раньше. Оказалось, что особенно и никого.Он переспрашивал фамилии. С такой фамилией, наверное, уже облысел. Она смеялась. Нет, хотя, может быть. А вышла бы замуж за этого, как его звали? Цыпкин Стас. Да, стала бы ты — Анастасия Цыпкина. И вы бы звали друг друга «цып и цыпочка».
Он тоже любил раньше. Она это узнала позже. Лежали на большом матрасе в ещё пустой квартире. Он не разрешал ей курить дома, поэтому, чтобы чем-то себя отвлечь, она варила себе всю ночь кофе. Она всё расспрашивала. А он зачем-то рассказывал: красивая женщина, намного старше тебя, сын Ефим, сейчас подросток, а десять лет назад был двухлетним мальчиком. Недавно вышла замуж второй раз. Почему не за тебя? Потому что. Покажи фотографию. Не покажу. Она красивая. А какая фамилия? Она, наверное, сейчас совсем старая.
После того разговора плакала, отвернувшись от него. Он её утешал, целуя то в одно, то в другое плечо.
У него не было друзей. Вернее были, но далеко. Один жил на Севере, а другой – в Израиле. Одного звали Мохнатая шапка, другого — Фимой.
Свадьбу праздновали почти без гостей. Он, его мама, её родители и несколько подруг. Её мама была против замужества:
— Ну и что за жених? Только, что москвич. А больше нет достоинств.
Зато своя квартира, и должность.
Соседи знали его ребёнком. Когда приходили к его маме на пироги, всегда останавливали: «Настя, а какой Максим был хороший ребёнок, всегда вежливый, слова грубого не скажет, сумки донесёт, попросишь хлеб купить, купит. Он и сейчас такой. Хороший муж тебе достался».
Жили они тихо. У него полдня занятия в университете, полдня в адвокатской конторе. Приходил поздно. Перед сном смотрели фильмы по его списку, она засыпала на середине, а он пересаживался за рабочий стол, составлял исковые заявления, готовил документы. Светила ярко лампа. Она жаловалась сквозь сон: «Мне свет мешает». Он ложился рядом, гладил её по спине, волосам:
— Ты мало любишь меня. Мало целуешь, обнимаешь.
— Я не люблю целоваться в губы.
Он поднимал футболку и целовал её в живот.
Он любил автомобильные поездки, фотографировал старые церкви и деревенские дома. Вдоль дороги высились столбы, тянулось желтым ржаное поле, зеленым – клеверное, над полями – небо. Вороны изредка ходили по полю, отклячив худые зады. Обращал внимание на названия всех рек. Какие-то остались в памяти: Кривуша, Жабка, Рябка, Карла, Сухая. Часто сворачивал с пути, чтобы посмотреть очередную деревню. Везде было одно и то же: несколько кирпичных домов, большая часть – деревянных, главный большой магазин с продуктами и промтоварами. Козы, куры, утки, коровы. Отец и сын, или пара дедов за ремонтами машины, дети на велосипедах, бабки на лавках возле дома. Все удивленно смотрели на них.
Ей хотелось в Ниццу, Париж, Рим, Амстердам. Она рассказывала ему: «А я читала, а я смотрела, а Нина прилетела». Он никуда не хотел. Давай начнём путешествовать после сорока. После сорока? Я буду старая. Ты что? Откуда у тебя такие представления о старости. А разве нет? Я хочу сейчас. Молодой и красивой.
Часто он ездил в районные суды, ночевал в гостиницах. Звонил ей: «Со мной живет таракан и клопиха». Она взвизгивала от отвращения. Ну зачем ты так? Таракан Тотоша, а клопиха — Марфинька. Привезу их к нам, заживём все вчетвером. Я им обещал. Такие у тебя глупые шутки. Он смеялся. Да, это не шутки. Ему хотелось говорить долго-долго. У неё затекала рука. Она говорила: «Приедешь, и нечего будет рассказывать». Ты устала? Ну ложись спать скорее.
Он был особенно нежный и счастливый там, в чужих гостиницах. Она это чувствовала и ей было почему-то грустно.
Один раз приезжал его друг «Мохнатая шапка». И правда, в шапке, ужасно немодный, маленький, лысый, с усами. На ужин пошли в итальянский ресторан. А водка есть? Ну какое вино, что мы девочки. Смеялись, читая меню. А что это? А это? Да это какая-то бабская вся еда. Пошли отсюда.
У себя на кухне жарили мясо и картошку, ели и пили с жадностью. Вспоминали каких-то однокурсников, кто где с кем сейчас. Ближе к ночи разговор крутился по кругу, выходили курить в подъезд, возвращались обратно, слушали песни Летова.
Утром пошли в Кремль. Было холодно, промозгло. Смотрели усыпальницу Рюриковичей в Архангельском соборе, потом поехали на Воробьевы горы. Шел редкий снег, как-то косо, в сторону. Шапка просил себя запечатлеть то на фоне университета, то бюста Ломоносова. Вечером он уехал.
Возвращались с вокзала на метро. Она злилась:
—Тебе нужно купить хороший пиджак, водолазку, новые очки, пальто. А ты так одеваешься, мне неловко. И друг твой Шапка.
—Да, друг мой — Шапка. Я буду Новый пиджак, а он Старая Шапка.
Он смеялся, ему было почему-то смешно:
—Зачем мне быть красивым, вот ты у меня красивая, пусть ты будешь красивая.
Она любила магазины. Замирала у витрин: платья, платки, свитера, юбки, сапоги. Он всегда ждал её снаружи примерочной. Она звала его — ну как? Он всегда одобрительно кивал головой: «Красивая ты, тебе всё идёт».
Перед свадьбой он купил ей дубленку, чёрную, с каракулевым воротником. Дубленка оказалась ноская, и она ходила в ней и после развода.
Ссорились из-за его диссертации, он не хотел защищаться и работал на полставки. Простой преподаватель, а дураки всякие… Они не дураки. Дураки. Зачем мне это звание? Что оно мне даст? Статус? Ну какой статус? Такой. Ну аргументируй, какой статус? Такой статус, что тебя никто не уважает, а будут уважать. Ты рассуждаешь, как дура. Конечно, я дура. Да, ты дура. Потом мирились. Ты меня любишь? Он долго не отвечал, потом соглашался: «Да, да, люблю».
Часто спрашивала его после ссор: «А ты хотел бы другую жену?» Какую? У тебя есть кандидатуры? Нет, ну серьезно, другую. Конечно, чтобы играла на банджо в маленьком оркестре. Я бы сидел в зале и смотрел на нее, приносил цветы за кулисы, и носил бы футляр с её инструментом. Да, она была бы у тебя с буклями, в очках, как Ирина Степановна у нас в бухгалтерии. Нет, она была бы хичкоковская блондинка в узкой юбке и на каблуках.
Как-то во время серьезной ссоры сказала: «Когда-нибудь ты разлюбишь меня и найдешь другую, и забудешь». Он серьезно ответил: «Да, разлюблю, найду другую, забуду».
Спали тогда под разными одеялами, и не помирились даже утром.
Ему нравились пироги, плов, борщ. Она ничего не готовила. Не ела мучного и жирного, худела. И он делал всё сам, аккуратно передвигаясь по маленькой кухне. Специи в шкафу расставлены в особом порядке, кастрюли в одном отделении, сковородки в другом, эти фарфоровые чашки только для гостей, эта только для меня.
Его рабочий стол всегда был стерильно пуст. Книги он обкладывал бумагой, чтобы не трепались обложки. Не разрешал трогать его вещи. Часто рассуждал о чём-то непонятном ей, и когда рассказывал, ходил от волнения по комнате кругами. Она думала о своем.
—Ты меня не слушаешь?
—Слушаю.
—И что я говорил?
Она думала, что совсем не бьётся сердце.
Коридор, кухня, комната. Запах старого клея под обоями. Свет от лампы, звук клавиатуры. Звонки его мамы.Мгновенно вспомнила, как не могла здесь жить. Как всё раздражало. И этот диван, который он раскладывал вечером, а утром она собирала. Потом уже не собирала. Так и оставался — раскрытый, с наваленными подушками, одеялами.
Всё это она оставила сразу. Решила в метро. Ехала в туннеле, и вдруг неожиданно изгородь из деревьев, как на картинках. Украинские дворики. Свет, тень. Кружева. Выехала на свет. И стало ясно. Нужно всё бросить. Но не успела сказать, он предложил первым:
— Я устал, я так больше не могу.
Она зачем-то переспросила, удивляясь: «Разлюбил? Скажи – разлюбил?» Он молчал несколько минут, потом неуверенно сказал: «Да, наверное».
Наверное? Или да?
Да.
«Живу по-прежнему один, и рано утром мне на работу, и много непроверенных курсовых». Всё это сообщил он ей быстро, не давая зайти в квартиру, но она перебила: мне нужно кое-что забрать. Что забрать? Неизвестно. Развелись почти сразу, и она не успела заселить собой квартиру.
Она быстро прошла в единственную комнату и села на диван, не сняв плаща.
Максим настороженно смотрел на неё из дверного проёма, не заходя в комнату, поглаживая автоматически ладонью локоть правой руки, как делал всегда, когда нервничал. Она смело взглянула на него и улыбнулась, словно желая сообщить что-то смешное:
— На самом деле я ничего не забыла.
Он не улыбнулся:
— Я понял.
— Как мама?
Он не сразу ответил:
— Хорошо. А твоя?
— И моя хорошо.
— А Олег Иваныч?
— Умер.
— Как?
Он вошел в комнату, все так же нервно потирая локоть.
Максим называл отца ласково, по свойски «папка». Отец сокрушался, уже очень плохой, на больничной койке: «Жалко, что вы с Максимом не живете, может еще помиритесь, вы молодые. Но это ваше дело, я не вмешиваюсь». Под одеялом еле заметные очертания исхудавших ног, заросшее щетиной лицо, он тяжело дышал, тяжело говорил. Непереносимое чувство жалости перехватило дыхание, Настя заплакала.
Максим остановился, не зная, что делать. Смотрел на неё беспомощно. Наконец, сел рядом. Молчали. Когда Настя, немного успокоившись, подтирала влажной салфеткой следы растекшейся туши, спросил:
— Почему ты мне не сказала?
— Зачем? Мы все равно развелись, какая разница.
— Как какая разница? Он был мне нечужой человек. Он был. Так же нельзя.
— Ты знал, что он болеет. Мог бы позвонить, спросить. Не мне, а ему.
Конечно после всего сказанного надо было уходить. Мог позвонить, спросить, но не звонил. Что еще можно было ждать? Но она упрямо не уходила.
— Чай? Может быть, чай? — неохотно предложил Максим.
И снова она удивилась чистоте маленькой кухни без единой помарки беспорядка. Вся посуда на местах, за блестящими стеклами шкафчиков.
— Ты, наверное, совсем не готовишь?
— Почему, готовлю… Настя, не знаю, что тебе предложить. Конфет у меня нет. Может быть, мёд? Мне одна женщина, я представлял её интересы в суде, принесла трехлитровую банку. Неудобно было не взять, я бы обидел. Соседи требовали, чтобы её дом… Ну, тебе это не интересно. Где ты сейчас живешь? Снимаешь?
— Мы снимаем с одной девушкой, ты её не знаешь, по комнате. Пять минут до метро. Хорошая квартира, но дорого.
Она смотрела с забытым наслаждением, как он обдавал кипятком всё тот же стариковский китайский чайник, за ним чашки, отсыпал чай и следом наливал воды на самое донышко чайника, привычно дожидаясь трех минут, потом еще трех, когда чайник уже полон. Еще был стеклянный, в нем, в особенно мирные вечера, заваривали связанный чай, и безмолвно наблюдали, как за испариной стекла раскутывался клубок чайных листьев, выпуская из плена когда-то мертвый, но вот оживающий, лепесток за лепестком то молочно-белый, то дымчато-розовый, то сине-лиловый бутон. Максим говорил каждый раз: «Когда-то так развлекались китайские императоры».
— Ты там же работаешь?
— Там же.
— И я.
— На работе как?
— Всё хорошо. Вселились в новый корпус. На седьмой этаж. А лифт не работает, но когда приезжает ректор, его запускают, ему одному лифт включают. Водитель наш вчера вернулся из Монголии. Выучил несколько английских слов: ай нид дринк, например.
— Это какой? Голубенко?
— Нет, Голубенко уволился.
—Тебе нравились его духи.
Её глаза заблестели:
— Ну и что?
— Да ничего, просто вспомнил. Как они назывались?
— Я уже не помню.
— А я помню.
— Ну и как?
—«Аzzaro chrome».
— Вкусный чай. Какой-то дорогой, как ты любишь?
Максим внезапно засмеялся, закрыв лицо ладонью.
— Что? Что ты смеёшься? Из-за чая?
Он покачал головой, все продолжая смеяться:
— Помнишь, ты сказала уборщице в туалете, которая все кабинки загородила: «Извините, но вы дура».
Она тоже засмеялась.
— Ну во все кабинки швабры рассовала. А очередь же. А она моет, не спеша. Мне кажется, я больше уже не выйду замуж.
— Почему?
— Мне уже двадцать семь и вообще…
—Глупости, выйдешь. Увижу потом у тебя в инстаграме: некогда девица Анастасия Фёдорова, а ныне примерная жена и многодетная мать.
— Я не Фёдорова, я не поменяла твою фамилию. Я еще Королева.
— А почему ты не поменяла?
— Тебе что, неприятно?
— Да нет, просто если бы у нас были дети, то тогда понятно, они — Королевы, и ты с ними — мадам Королева.
— И ты так спокойно говоришь, были бы дети и мы развелись? И тебе было бы всё равно, что они живут со мной.
— Нет, не всё равно. Ну ладно, я бы был Бондарчук, тогда понятно, кто же от такой фамилии откажется.
— От Бондарчука я бы так просто не ушла.
— От Бондарчука и я бы не ушёл.
Она становилась все мрачнее и мрачнее. Он смотрел с какой-то неприятной для нее жалостью на её руки, лицо:
— Давай тебе булку маслом намажу. Исхудала совсем. Наверное, ничего не ешь.
— Я теперь вегетарианка.
— Зачем это?
— Полезно для тела и духа… Максим, у меня, наверное, не будет детей. У меня поликистоз яичника, и вообще, столько всего.
— Настя, может быть, мне не нужно знать о тебе всё так подробно. Я же тебе не подружка, и не друг.
— Я и не прошу. Только можно я останусь ночевать?
— Конечно, нет.
— Я только на одну ночь и потом уйду навсегда. У меня температура, кажется, нет сил куда-то идти.
Он постелил ей все на том же диване, она попросила его футболку. Он долго искал в шкафу, выбирал. Наконец, выдал футболку еще времен их общей семейной жизни. Она сама ему когда-то покупала.
— Я еще поработаю на кухне. Любишь ты категоричные заявления: навсегда, никогда. Спокойной ночи.
Она ворочалась с бока на бок, не могла согреться, ломило тело, раздражал свет с кухни. Казалось, что все предметы угрожающе близко: острый бок стола, книжный шкаф. Комната выходила окнами на маленький двор, и обычно ночами было тихо, но сегодня выпивали на детской площадке и громко смеялись. Настя закрыла окно, дрожа всем телом.
«Домой, домой» — повторяла она, натягивая скользкие колготки, холодное платье. Растрепанные волосы казались грязными, но она не стала ничего поправлять, пусть так. Аккуратно положила футболку под подушку, как он сам делал всегда. Одинокая машина остановилась под окнами, не выключив фары, и полосы светы медленно завращались на потолке, словно крылья ветряной мельницы.
Максим сидел за кухонным столом, наклонившись над бумагами, рассортированными по цветам стиков. Свет от лампы падал на его лицо, набавляя возраст, но вопреки невыгодному освящению, само лицо стало мягче, светлее, беззаботнее. Она не сразу поняла в чем дело и удивилась своей невнимательности. Он поменял очки, те прежние были массивными, и его лицо под ними казалось мельче, чем было на самом деле, а новые легкие, в золотисто-бежевой оправе.
— Хорошие у тебя очки. Тебе идут.
Он снял очки, озадаченно рассматривая оправу, как будто увидев её в первый раз и протер стекла салфеткой.
— Спасибо.
— Когда купил?
— Месяца три назад. А что?
— А почему захотел новые очки?
Он пожал плечами:
— Ты почему не спишь?
— Знаешь, я все-таки не могу здесь спать. Поеду домой. Вызови мне такси.
Он сразу согласился: «Как хочешь».
Она хотела его спросить, как же быть дальше, что же делать. Рассматривала стены в старых обоях:
— Ты так и не сделал ремонт?
— Сделаю, когда женюсь в следующий раз.
Он сурово смотрел на телефон, по экрану по прямой медленно ехала игрушечная машинка.
— Ты любил меня?
Она ждала, что он будет сердиться, препираться, уходить от ответа. Приготовилась умолять: «Ну вот я уйду и больше не приду никогда, скажи сейчас, честно. Скажи».
— Да.
— Любил? — зачем-то переспросила ещё раз.
И он ответил так же быстро, спокойно, твердо.
— Любил.
Он не отводил взгляд, смотрел на её лицо.
—А когда ты сказал, что больше не любишь, ты еще немного любил?
Он не улыбнулся в ответ, хотя она смотрела на него просительно-улыбаясь, как будто немного иронизируя.
— Настя, — позвал он её, — Я старался, я хотел… Я каждый день, каждый день обходил твоё настроение. Я хотел тебе счастья, нам счастья. Я думал, что получится. Я о многом молчал, чтобы не бередить, не мучить тебя. Но мне было плохо. Я думал, что если потерпеть, всё выйдет. Ты молодая, мы молоды. Понимаешь? Надо было потерпеть. Но ты не умела. Ты хотела, чтобы сразу было всё. Но я не мог. Я старался, ты не представляешь, как я старался.
Он говорил это, умоляя её быть к нему милосердной. Тёмные волосы, разделённые на пробор, борода. Рубашка с коротким рукавом. Он стоял так близко к ней. Она попробовала это расстояние, погладила его по плечу. Он не отшатнулся. Не двинулся. Она слышала, как он дышит.
— Я тоже.
Он не сразу понял.
Она разъяснила спокойно, мягко, как будто он был ребенок, а она его мама.
— Я тоже любила тебя.
Почему-то таксист поехал другой дорогой, и Москва была другая, пустая, летняя. Она попросила остановить у Крымского моста. Стоял теплоход, и, несмотря на позднее время, ещё пускали на борт.
—Особенный рейс, —подмигнул билетер, пропуская её —вашу ручку, мадам.
На палубе уже веселились вовсю. Как будто так катались и праздновали весь день и не хотели заканчивать. Между танцующими сновали быстрые официанты. Один, с ленивым пухлым телом, смахнул котлету с тарелки к себе за пазуху и подмигнул ей.
— Он украл котлету, — пожаловалась она старичку со смешной тоненькой косичкой.
— Что же, пусть, её все равно бы не съели, что же жалеть, что же жалеть? Зачем вам, такой молодой и красивой, расстраиваться из-за котлеты. Украл и украл, на здоровье, — приговаривал старичок, приглашая её на танец.
— Я мясо не ем, мне не жалко, но ведь ему и так носят и носят из столовой, зачем же красть?
Официанты вкатили низенький столик. На подносе возвышался замок из белого мусса. На шоколадном балкончике стояли крохотные фигурки жениха и невесты.
— Так это свадьба? — спросила она старичка.
— Свадьба, свадьба, — старичок все повторял по два раза.
Ей хотелось говорить, жаловаться, и она жаловалась — больше не будет любви, мне уже двадцать семь, неизвестно, ничего не известно, что делать. И старичок, бережно обнимая её за талию, удивлялся — как же не будет, все будет, такая молодая и красивая. Еще он напевал про себя какую-то странную песню: «Над Москвой-рекой ходили». Голос старичка успокаивал, утешал: «Продавали холодильник», а ну и что, приговаривал старичок. «Улетали за Урал». А ну и что? «То ли страсти поутихли, то ли не было страстей».
Горько! Горько! — кричали в центре танцующих, и сквозило в толпе, как снег в окне за черными скелетами деревьев, белое нежное платье новобрачной.
Иллюстрация Матвей Вайсберг, «Джули»