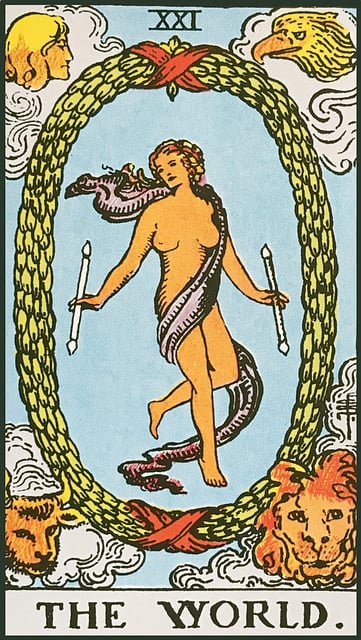Ещё тогда, когда росли деревья,
похожие руками на людей,
когда дымы всплывали над деревней,
пушистыми хвостами соболей
и закипали под лучами солнца,
взошедшего случайно над землёй,
нам оставалось идолопоклонство
и гул стрекоз над тёмною водой.
Но мы любили тех, кого любили,
расписываясь в слабости своей,
а вместо рук у женщин были крылья
и полное отсутствие теней.
***
Не оглянуться. Там, в других пределах,
где имена и отчества прошли
мы стали просто Божьим новоделом
по образу его на раз, два, три.
Несовершенны, с памятью короткой,
готовые признать свою вину,
мы запиваем страхи райской водкой
и жарим над кострами свежину,
попавшую сюда часами позже
и ждущую решения суда.
Мы знаем точно — Бог рукоположен,
но он один, а нас вокруг орда.
***
«И менять сгоревшие лампочки» (Земфира).
Выключи свет.
На улице, в подъезде, в коридоре, комнатах и холодильнике.
Белого света нет.
Твой голос в моём будильнике.
Тихий такой и ласковый,
что я от него не проснусь,
а буду дышать твоими пастельными красками.
Выключи меня.
Осталось всего ничего.
Два вдоха и три выдоха до конца нашего дня.
Но есть ещё пару часов в ночи.
Время, чтобы менять сгоревшие лампочки.
Возьми у меня ключи.
Нащупай их в темноте.
Они лежат под подушкой в изголовье нашей кровати.
Нет, это не те.
Эти от тёмного пыльного рая.
В котором выключен свет.
Мы там взрывались, перегорая.
А тебе нужны, те, которых в помине нет.
От холодильника, комнат, коридора, подъезда и улицы.
Чтобы выключить свет.
***
Охота жить и к перемене мест
не требует особенных усилий.
Вот только небо из ванили станет синим,
зачёркнутым стрижами в перекрест,
как нотный ряд черновиков балета,
я встану на крыло и улечу,
над городом твоим ввинтив свечу,
до светофора между тем и этим светом.
А за спиной полутона морей,
тепло камней и холод проводивших.
Я помню лица всех меня учивших
не слушать радио и сводки новостей.
Прогноз погоды на пятнадцать лет —
погода лётная и все дожди пролились.
При перемене места женщина приснилась,
которая варила мне обед.
***
Он не любил в презервативе,
она не любила цветы в целлофане.
Они познакомились в сильный ливень.
Он был в пальто, а она в панаме.
Если вино, то розэ Прованса,
Если бухать, то портвейн из Крыма.
Если постель, то сначала танцы.
Просто постель неотвратима.
Что почитать? Ну, возьми Ремарка.
Тоже война и он пишет просто.
Хочешь чайку? Добавляй заварки,
не нарушая порядок тостов.
Но по ночам так шептала: «Милый…»,
что забывала бывавших рядом.
И прижимала, что было силы,
помнив, конечно, что он женатый.
Вот и случилось ей быть счастливой.
Вот и ему перепало ласки.
Он не любил в презервативе.
Она не читает ребёнку сказки.
***
Мне кажется, что этот год прошёл,
как скорый ночью, щёлкая на стыках.
Налево степь, похожая на стол,
направо лес, с его звериным рыком.
Посередине узость колеи,
прибитой основательно гвоздями,
а в топке паровозные угли
сгорают, оказавшись не камнями.
Весь пар в свисток. Вскипевшая вода
находит выход, вырваны заклёпки.
Кулисами мерцают города
В них на попа поставлены коробки,
в которых спят, друг с другом и одни,
ушедшие с перронов пассажиры.
Им палочками ставят трудодни,
не отпуская пробродить по миру.
А год в туннель, в котором света нет,
но встречный слепит и глаза слезятся,
а вдоль пути устроен парапет,
но не для нас, скорей для иностранцев.
Проводники разносят карий чай
и высыхают влажные постели.
Позавчера был полустанок Май,
разъезд Июль сегодня пролетели.
***
Такая в воскресенье тишь да гладь,
что хочется себя взорвать,
забрызгав стены, пол и потолок,
чтобы потом спросили: «Ты же смог
или был только имитацией подрыва?
Не шатко и не валко, косо, криво,
не соглашаясь и не возражая
петлял себе от края и до рая?»
Но рая нет. Есть только воротА
на ржавых петлях. Ну, и пустота,
похожая на Сциллу и Харибду,
дыра, как лаз в разграбленную крипту
и до смерти уставший часовой
с трясущейся от горя головой,
а может от наследственной болезни.
Хор стариков поёт блатные песни
на каждом из забытых языков,
Блестят глаза дворовых кошек и котов,
рекламу на столбах чихвостит ветер.
Что там ещё осталось в смете,
не разворованное мною по пути?
Спасатель мой уехал навестить
Спасителя, застрявшего в пустыне,
ему не позвонить, не вспомнить имя,
но повторять на запрещённом языке:
«Спасибо, Г-споди, что я в живой реке
омою ноги, руки и лицо».
В присутствии молчащих праотцов
праматери напоят из сосцов
остатками остатков молока.
Тепло их тел не чувствует щека
и холодит сквозняк виски и шею.
Пора вступать в бригаду назареев —
не пить вино, не хоронить друзей,
от Флавия узнав, что фарисей,
не стричь волос и, раздавая семя,
плодить высоковыйно племя.
Такая в воскресенье тишь да гладь,
что хочется себя взорвать.
***
Вам виски днём, со льдом или под вечер?
А всё равно, когда с утра помечен
и мучаешься муторной тоской,
не понимая — это ты такой,
или они, которые вокруг.
Не открывай на их неровный стук
в отделы вялых нервных окончаний.
Как хорошо, что ты не англичанин,
а то бы спился пивом, не водой,
уже не тёплой и не молодой,
не родниковой, просто из-под крана.
Вам виски утром, или утром рано
разбавить кофе вместо молока?
Скажите, из чего эта река,
такого серого, неласкового цвета,
как пачки лебедей кордебалета,
стоящего на цыпочках своих?
Разлейте нам. Нас двое. На троих.
Но поровну. Невидимому тоже.
Он нами был вчера рукоположен,
рукопожатен и не рукожоп.
Не кардинал, не раввин и не поп,
один из нас, из русских и армян —
Пэтро Абрамыч Пушкин-Джекичян.
Так вам в бокал или, простите, в чашку?
Мы провожаем день вчерашний,
прохладный внешне и холодный изнутри.
Мне на три пальца лейте: раз, два, три.
И лучше наливайте прямо в душу.
Так не прольётся, и заходит лучше.
Опять же — экономия воды.
Попробую не портить борозды
и не пахать остатки целины,
мы перед ней, как перед Родиной ровны.
И не зовёт, а если да — негромко,
немного жалобно, и голос тонкий.
Мой лёд трещит перед загрузкой дня,
залитый чем-то цвета октября,
хотя июль и колобродит Киев,
а Днепр до восьми не сер, а в синем.
***
Когда мой поезд проедет через границу,
досмотрев чемоданы и выкинув груз на перрон,
они, хмуря свои пограничные лица,
заорут во все рации: «Держи его, это он!»
Я прыгну из двери вагонного тамбура
и побегу в мощных китайских лучах их фонарей
в лес, где буду жить на корнях топинамбура
и землянике, оставшейся после зверей.
Меня не найдут и через три долгих года
я доберусь к тебе, неразговорчивым и худым,
человек неизвестной науке породы —
ты не узнаешь меня, но протянешь неспелый «Налив»
Я прикоснусь к твоим пальцам, тёплым и влажным,
и, стесняясь своих, огрубевших от жизни в лесу,
скажу тебе все, что кажется очень важным
и, обещая не врать, совру на голубом глазу.
***
Чумацкий шлях прекрасен в своей млечности
и осыпается серебряным дождём
и, преступленьем против человечности,
мы по нему когда-нибудь уйдём.
Следов не будет, но воспоминания,
как камни — преткновения шагов,
и меньше встреч, и дальше расстояния
от бывших острых до тупых углов.
***
А по последней сводке метео,
соврёт же, впрочем, как всегда,
дождь разольётся в четверть третьего
и в воду упадёт вода.
Пустив круги, оставшись кольцами,
кальмары взмокнут на столе —
они вернутся комсомольцами,
приняв крещение в Десне.
Там караси в сметане плавают—
привычка шевелить хвостом
и набивать желудок травами
придумана Дюма-отцом.
А сыном — дама с барабульками
из наших крымских Балаклав.
Я в тире там стрелялся пульками —
не Брут, но всё-таки не прав.
***
Вопрос не в том, где спать. Не в том, где жить.
Собрать бельё и улететь на Крит
и слушать ветер. Его нудная тоска
скрипит, как постаревшая доска,
растрескавшись от солнца и от влаги.
Последний дождь в апреле смыл с бумаги
почти похожий на иврит санскрит.
Собрать слова и улететь на Крит.
И заворачивать в стихи кефаль.
На Крите отменён февраль,
морозы, снег и гололёд.
Зато мельтеми* все своё возьмёт
в июле, раздувая щеки.
На Крите ничего не слышали о Блоке.
Ночь, улица, фонарь. И драка
у воцерковленных котов из Плаки.
У них два глаза на двоих и три хвоста.
От ветра пыль, от мыслей пустота.
Собрать себя и улететь на Крит.
Вопрос — где жить, когда болит?
*Мельтеми — название ветра
***
И жизнь, и поле перейти
по снегу и по глине,
и чушь прекрасную нести,
от веку и поныне,
и не вернуться по следам,
на звук и дым отчизны,
где затаскают по судам,
не приготовят тризну.
Рюкзак не полон, не тяжёл,
все люди в нем актёры,
и, если сказано: «Пошёл!»,
какие разговоры,
какие споры о богах,
о счастье и о смыслах?
Что там ещё в твоих руках
дымится коромыслом?
Ещё, пушинками висят
любови на лопатках,
а спину жжёт прощальный взгляд,
как птичка над и кратким.
***
И вот однажды станет дважды,
а трижды не произойдёт
и кто-то, смелый и отважный,
все переврёт наоборот,
что были мы нерасторопны,
не открывали острова,
но всем растеньям психотропным
раздали наши имена.
Ты помнишь, пела беладонна
и соло вёл чертополох,
а одуванчики нескромно
снимали пух со стройных ног.
Ромашка любит и не любит,
и, жертва гендерных проблем,
кровавый мак её голубит,
ещё не наркоман совсем.
У незабудки память хуже,
а мать-и-мачеха хандрит,
лопух на сквозняках простужен,
нарцисс имеет бледный вид,
но подорожник, как спаситель,
готов принять любой удар,
а избавление ищите
в текиле колющих агав.
***
Такие новости, такая суета,
что хочется опять заснуть с утра,
не открывать глаза и до полудня
проспать своей самолёт, автобус, судно
и вовсе не лететь и не идти.
Тем, с кем сегодня было по пути
не отзвониться, просто написать,
мол, извините, всем ложиться спать.
Такая мерзкая сегодня суета,
что буквы прыгают и падают с листа,
чтобы не складываться в ленты новостей,
не называть по именам людей,
не поминать их больше всуе,
веков вовеки, присно. Чую,
что утро просто так не обойдётся.
Ещё молчит в себя нутро колодца,
но камень птицей набирает ход.
Вот-вот, и птица камнем упадёт,
не видя в вязкой темноте не зги,
оставит на моей воде круги,
так незаметные вначале.
Но знания мои всегда в печали.
Такие новости. Такая суета.
Горят листы неопалимого куста.
***
Проходит день походкой алкаша,
подошвами цепляясь за бордюры.
Вином из одуванчиков греша,
вполне доволен летней синекурой,
лениво наблюдает за людьми,
распластанными на песчаных пляжах.
Они, отдавшись солнцу по любви,
целуются, любовники со стажем,
с его лучами, тронувшими грудь
и гладящими бёдра и лодыжки.
И вроде бы не пил, совсем чуть-чуть,
но нет уже не дна и нет покрышки.
***
По прошествии лет,
по мерцанию фар,
по прожитию бед,
по ветрам из Сахар,
Каракум и Негев,
по долгам и грехам,
целованию дев,
по рукам и ногам,
по прочтению книг,
по нагару свечей,
по тому, что достиг,
потому, что ничей.
по кивку головы,
по слезам и словам,
по остаткам травы,
перекрёсткам, углам.
по моим именам,
если отчества нет,
по случайным стихам,
по борщу на обед,
потому, что лечу
на подбитом крыле —
ни за чем не грущу,
разве, что по тебе.