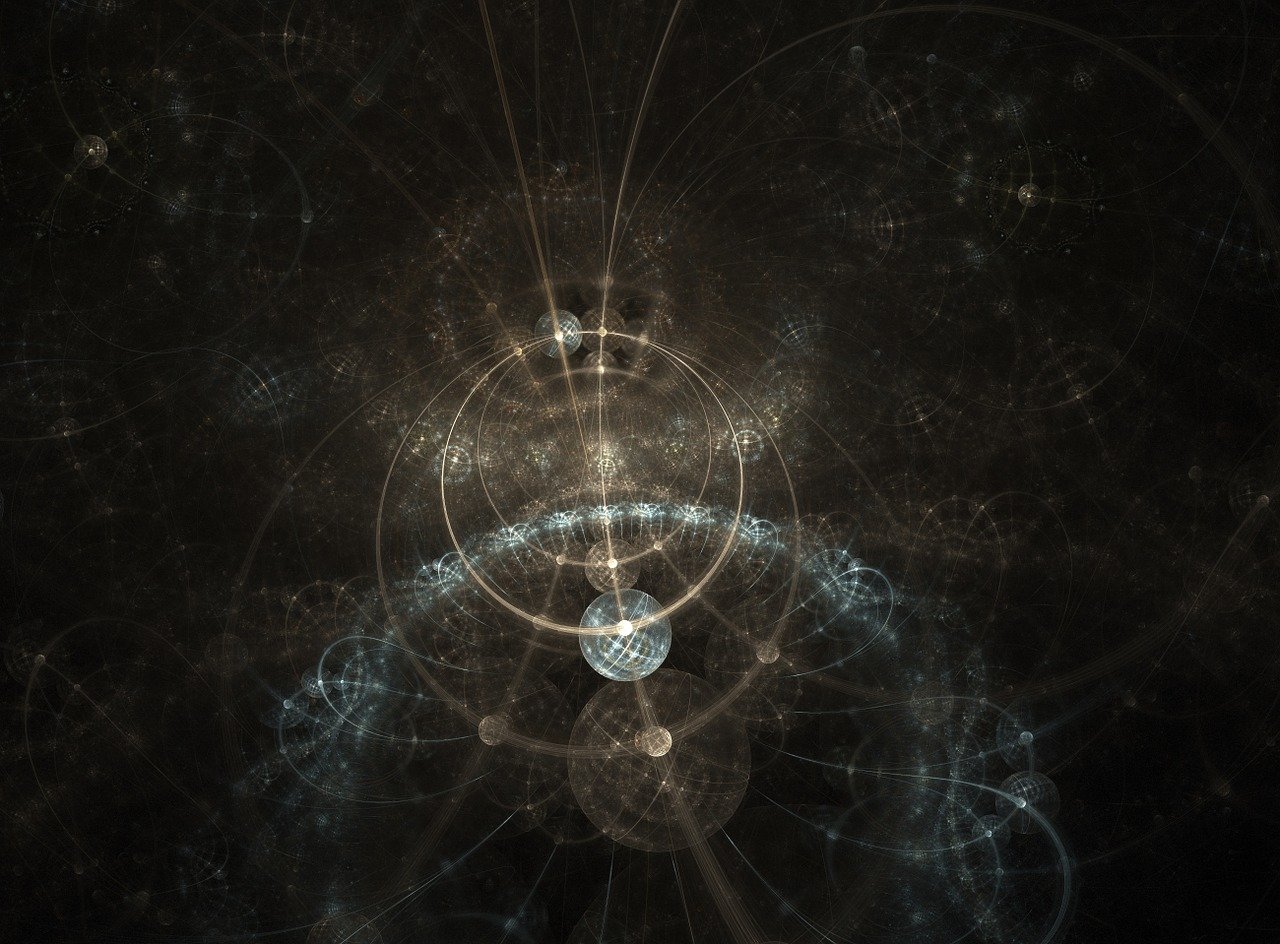1
Ровно в полночь, подавившись безвременьем между седьмым и восьмым марта, Лев Анатольевич Титов полетел за дверь. В полете его преследовала сумка, соревновавшаяся с летучей бранью, которая цеплялась за воротник, но не задерживалась и осыпалась лестничным мусором.
Жена Титова, сочетавшая в себе брань и дрянь, сумела задержаться на пороге и прочертила в содрогнувшемся воздухе реактивный след, какой оставляет взор-истребитель.
Лев Анатольевич попался.
Он приобрел сифилис и показал его жене.
Дело было так: Лев Анатольевич – уродливый, как жаба – увлекся натурой. Он преподавал в художественном училище, и любовь настигла его в тот момент, когда он нарисовал правую голень. Такое с ним случалось не однажды и всегда – безответно; на сей раз Лев Анатольевич решил, что не станет терпеть.
«Примерно вот так», — сказал он студентам, поворачивая эскиз, и удалился в свой кабинетик-чулан, где положил в рот жвачку и вымыл над раковиной подмышки. Эти меры не помогли. Титов оказал натурщице знаки внимания, но та равнодушно оделась и скрылась из мастерской.
Лев Анатольевич охотился за ней без малого две недели. Он подкарауливал жертву в разных местах и объявлялся неожиданно под видом сюрприза. Жертва игнорировала подарок судьбы, и Титов пошел на крайность. Смутно догадываясь о своем уродстве, он отправился к чародейной ворожее. Адрес он выискал в еженедельном журнале с телепрограммой. Для экономии сокращая слова, ворожея гарантировала телезрителям стопроцентный и нестандартный приворот.
Он захватил с собой неоконченный портрет, и чародейка сказала, что этого вполне достаточно. Она позвенела браслетами, произвела ритуальные телодвижения при свечах, и Титов озадаченно смотрел на нее, напоминавшую в своем колдовском наряде соблазнительного пирата. Затем ворожея передала Титову пузырек, куда настригла с Титова ногтей, и посоветовала налить из него в шампанское или суп.
«Себе?» — спросил Титов.
«Конечно, даме», — поморщилась ворожея.
Лев Анатольевич проследил за натурщицей до кафе-столовой, где, отворачиваясь и пряча лицо, подкрался боком и вылил зелье в харчо. Лекарство подействовало, и неприступная крепость распахнула врата. Титов устремился туда троянским конем, а вышел сивым мерином, обязанным врать.
Метаморфозу он заметил не сразу. Прошло три недели, пока кое-где не появился орнамент, он же барельеф. Не чуждый прекрасного, Лев Анатольевич мгновенно увидел в этом художественное излишество. Это был избыточный штрих, уродовавший все полотно с талантливо нарисованной пасторальной любовью между сатиром и фавном. В умозрении Титова почему-то не находилось места пастушке.
Он метнулся к анонимному и частному доктору.
Тот обрадовался и поверил гармонию алгеброй: «Первичный аффект».
А потом запросил неслыханную сумму, и Титов ушел.
Между тем супруга Льва Анатольевича уже давно проголодалась и начинала сердиться на то, что из ночи в ночь наталкивалась на демонстративный храп. Дождавшись восьмого марта, она возликовала, сказав себе, что Лев Анатольевич не отделается мимозами. Тому показалось, будто вместо очков жена нацепила себе на нос красную восьмерку. Понимая, что праздничная ночь требует увесистых праздничных аргументов, Титов сознался во всем и предъявил барельеф.
Для разрядки напряженности Лев Анатольевич пошутил и назвал его детской болезнью левизны.
«Когда Лева ходит налево», — объяснил он, не делая паузы.
И полетел с лестницы.
2
В сумке, догнавшей Титова на излете лестничного марша, лежали документы. Еще там были злополучный журнал, зонтик, а также берет и длинный шарф, положенные художнику по рангу – больше ничего. Из прочей одежды Титов удовольствовался домашним платьем: широкими штанами с прорехой по шву, просторной рубахой и тапочками «ни шагу назад». Выкатившись наружу, он понял, что с мартом не шутят, тем более с восьмым, и бросился назад, но дверь захлопнулась, а домофон сломался неделей раньше. Он еще умел запираться, а вот отвечать на запросы уже разучился. Ключей у Льва Анатольевича не нашлось.
Ежась и ужасаясь, он покатился в темную ночь.
Небесная манна рассыпалась в созвездия, утешала его планетарием, но Лев Анатольевич не хотел видеть звезды. Они казались ему незаслуженными алмазами. Пеняя себе за откровенность, повлекшую за собой надругательство над актом интимного семейного доверия, Титов забегал во дворы и ломился в подвалы, надеясь подыскать себе местечко потеплее. На попадавшихся ему дверях висели противотеррористические замки, и только одна оказалась незапертой; когда Лев Анатольевич вбежал внутрь, там начали просыпаться, и в мутном свете неизвестно чего Титов как будто увидел себя самого отраженным в пяти зеркалах. Страшные хари, выбравшись из-под ветоши, вопросительно воззрились на Льва Анатольевича, спросонок не понимая, кто перед ними – ангел возмездия или жертвенный агнец. Титов попятился и выскочил вон.
Он добежал до вокзала и свернулся там в кресле позавчерашним калачом. Его сразу же подняли на ноги, свели в милицию, где Титов дал чистосердечные показания. Он начал жаловаться еще по пути.
Ему проверили документы, услуга платная. Льву Анатольевичу было нечем рассчитываться, и к этой его проблеме отнеслись с пониманием. Рассказу поверили тоже. Титов сократил сюжет, на сей раз решив опустить линию, повествующую об орнаменте – лишнее оно и есть лишнее, а Лев Анатольевич – художник. Жене, оказывается, и той нельзя рассказать, а милиция не жена.
Титов пробудил в милиционерах некое подобие сочувствия.
Его усадили за телефон и предложили звонить знакомым в поисках ночлега. Как назло, он не помнил ни одного номера. Сосредоточившись, позвонил в училище, сторожу, и попросил его впустить. Заспанный сторож зарокотал, как вулкан, и милиция поспешила на помощь: осведомилась, знаком ли абоненту Лев Анатольевич Титов. Вулканическое рокотание сменилось почтительным бульканьем горячего источника. Да, сторож был готов подтвердить личность голоса и предпринять в его отношении любые затребованные меры. Милиция положила трубку. Великодушие не имеет границ, стоит только начать. Миловать так миловать, и Титова привезли к училищу в патрульной машине.
Ночью там было страшно. Лев Анатольевич очутился в своей мастерской наедине с незавершенными работами. Он готовил их к маленькой выставке, призванной эпатировать и возмутить всех желающих, и теперь его окружали конкретные в своей абстрактности существа нездоровой окраски, покосившиеся пирамидальные строения, патологическая зоология, неправильные геометрические фигуры. Стоя в центре комнаты, он завертелся ржавым волчком. Все это нужно было срочно завесить тряпками, потому что монстры угадывались даже при погашенном свете. Никаких тряпок Титов, конечно, не нашел; он улегся на пол, не располагая в сознании пространством для постельной импровизации.
Он не видел за собой непоправимой вины, кроме беды. Пытаясь задремать, Лев Анатольевич постепенно укрепился в мысли, что домой его больше не пустят. Ему, наверно, разрешат что-нибудь взять из самого нужного, но не больше. И то не взять, а подобрать в снегу, потому что все это полетит к нему из окна. Под утро, промаявшись без сна, Титов вполне осознал, что дела его плохи. Перспективы, представлявшиеся ему скучными, но прямыми и похожими на битую второстепенную дорогу, оказались оптическим обманом. Они резко сворачивали влево; свернул и Лев Анатольевич. То, что открылось его взору, напоминало не магистраль, а минное поле с оскорбительными табличками. В этих надписях Льва Анатольевича всячески обзывали.
3
Утром пришел Черниллко.
Новость о поселении Титова в мастерскую распространилась по училищу мгновенно. Реакция была вялой. Люди искусства – особое племя, гораздое на причуды. Сон в мастерской предстал в этом свете такой ерундой, что его не стали обсуждать.
Черниллко приятельствовал с Титовым.
Он был скульптором и ненавидел весь мир. Он пользовался известностью как автор многих аллегорических композиций – «Материнство», «Детство», «Отечество», «Прошлое», «Будущее». Титов много спорил с ним, доказывая, что скульптура, по причине неизбежной замкнутости форм и потому завершенности, исключает намек на развитие и возводит границы. Чтобы доказать обратное, Черниллко создал умышленно недоделанную статую под названием «Вера, Надежда, Любовь». Статуя шокировала городскую интеллигенцию, несмотря на очевидный параллелизм с мучениями Лаокоона, которые обычно приветствуются.
Черниллко был энергичен и полон жизни. Он катался по училищу злым колобком с ядовитой начинкой. Бабушка и дедушка, его испекшие, были аптекарями. Они наскребли по сусекам отравы и затолкали ее в комок нездорового теста. Бабушка вкрутила ему глаза-изюминки, а дедушка проковырял шпателем рот. Обстоятельства рождения в сочетании с выбором последнего инструмента определили скульптурную будущность колобка. Любой психоанализ показал бы это на первом же сеансе и сразу бы умер как направление от смелости в диагностике.
Черниллко не любили, и он приятельствовал с одним Титовым, потому что того любили еще меньше. От обоих не раз порывались избавиться, но так и не избавились, потому что работать стало бы некому.
Глядя на невыспавшегося, вконец расстроенного Льва Анатольевича, Черниллко встревожился. Он иногда позволял себе искреннее сочувствие, когда оно ни к чему не обязывало, и внутренне возвышался на собственным клокочущим ядом.
Титов, не делая предисловий, выложил ему все. Скульптор невольно поморщился, опасливо отошел на пару шагов и пожалел о поспешном рукопожатии при встрече.
— А где ты прописан? – спросил он в намерении выяснить главное.
— То-то и оно, что в общежитии, — Лев Анатольевич ухитрился одновременно пожать плечами и бедрами. – И там живет молодая семья. Грудные дети. Мы эти метры сдаем.
— Ну так выгони их и живи сам.
— Да? Меня линчуют. Во-первых, за молодую семью. Во-вторых, за диагноз.
— Ну так иди лечись…
— Я пошел, а там дорого.
— Иди где бесплатно.
— Я пойду, пойду… Только она сука. Она позвонит и расскажет. И директору расскажет, и коменданту. Меня затравят. Тебе еще не звонила? Позвонит.
Прикинув в уме, Черниллко признал, что Лев Анатольевич прав. Черниллко и сам поступил бы так же. Фигура Титова лучилась мутной скорбью, и скульптор нечаянно залюбовался. Ему захотелось засучить рукава и сделать статую под именем «Венеризм». Провалить ей нос и обрезать череп для намека на деградацию. Но во взгляде пусть будет мольба, и в позе мольба, и руки будут воздеты, а ниже пояса – сплошные деликатные бинты, наподобие кокона, из которого рвется неудачная бабочка, удерживаемая тяжким земным грузом и обстоятельствами.
— Найдешь себе новую, — подмигнул Черниллко. – Сегодня праздничек, очень кстати. Поздравим женщин, сразу и начинай.
— Как же мне начинать? – возопил Титов.
— Ах, да.
Черниллко перестал ерничать и задумался. Лев Анатольевич не казался ему способным к осмысленным поступкам. Он остро нуждался в помощи, а Черниллко хотел помочь так, чтобы им обоим сделалось хорошо. Статуя не шла у него из головы. В этом что-то было. Постепенно в его голове задымился дикий план.
4
Черниллко подсел к мольберту, рассеянно взял карандаш. На мольберте красовался лист с изображением дискобола, каковой был прочерчен лишь в общем контуре. Погруженный в раздумья, Черниллко так же рассеянно пририсовал гениталии, а рядом поставил знак вопроса.
Титов жалобно смотрел на получившуюся теорему. Требовалось доказать право Льва Анатольевича на существование. Скульптор задумчиво произнес:
— Нужно переместить задачу в эстетическую плоскость. Дай-ка взглянуть.
— На что? – не сразу догадался Титов.
— Покажи натуру.
Лев Анатольевич просиял и спешно спустил штаны. Черниллко удивленно выкрикнул:
— И как тебя раньше не выгнали?
— Что такое? – оторопел Титов.
— Ничего…
— Ты же сам попросил натуру.
— Ну да… натура и есть, в широком смысле. Комплексная аллегория с проекцией на личность.
Лев Анатольевич покраснел и быстро натянул исподнее. Он обиделся. Черниллко было все равно.
В мастерской горел жестокий электрический свет, гудела безразличная лампа. Серый мартовский рассвет испуганно просачивался сквозь оконное стекло, изобиловавшее потеками и разводами, и умирал на подоконнике.
Черниллко встал, повернулся к Титову спиной, остановился перед окном.
— Франкенштейн готовит выставку, — сказал он, не оборачиваясь.
Лев Анатольевич уныло кивнул. Он завидовал Франкенштейну. Ему все завидовали. Франкенштейн собирал мусор и выставлял его на всеобщее обозрение. Всем недовольным он указывал на покойного Уорхолла, добивая покамест живыми последователями и отколовшимися самородками, которые выставляли в манежах и галереях битый ливер, добытый из покойников, демонстративно морили голодом животных, сооружали стереометрические композиции из ведер с нечистотами, укладывались на пол голыми и вообще отличались предельной эксклюзивностью.
Франкенштейна называли сатанистом, чем он был чрезвычайно доволен и ходил гоголем.
Его галерею предали анафеме, и Франкенштейн удивился, ибо ни галерея, ни сам он не были замечены в церковной жизни.
Однажды, когда он устроил выставку под открытым небом, по его душу пригнали бульдозер, стоявший на запасном пути с хрущевских времен; Франкенштейн выгнал водителя из кабины, сел за руль сам и устроил погром, передавив свои работы; потом он что-то сломал в моторе, и бульдозер долго стоял среди руин, преподносимый в качестве нового экспоната.
— Искусство в динамике, — объяснял Франкенштейн прохожим, заключившим экспозицию в любопытствующее кольцо.
Он слыл деспотом и ни с кем не уживался, со всеми ссорился, вел себя нагло. Будучи оборотистым человеком, он сумел захватить все соблазнительные городские площадки, не оставив надежд эпигонам. В своем направлении Франкенштейн оставался единственной самодостаточной звездой. Никто не пытался составить ему конкуренцию, хотя подражатели выставляли, на первый взгляд, то же самое – черепа, собачье дерьмо, пивные бутылки и семейные трусы. Но Франкенштейна смотрели толпами, а на чужие трусы плевались.
— Я – бренд, — похвалялся Франкенштейн.
…Черниллко подошел к Титову, взял его за плечи и встряхнул.
— Мы пойдем к Франкенштейну, — объявил он, равномерно светясь от восторга.
5
Франкенштейн сидел в поганом шалмане и ел чебуреки.
Он был огромный, а чебуреки маленькие, они не издавали ни звука, и с них, раздираемых фарфоровыми зубами, только капало в ущербную тарелочку.
Галерея Франкенштейна находилась в двух шагах; официально там раскинулось что-то другое и был охранник, но в городе это строение-помещение знали как галерею, где вернисаж, скандал, дерзновение и прочее. Охранник и направил Титова с Черниллко в тошниловку, где Франкенштейн устроил себе обед.
Черниллко распустил студентов – своих и титовых, — сгонял домой за одеждой. То, что он приволок, оказалось коротко и широко, но выбирать не пришлось. Лев Анатольевич осваивался в новом качестве побирушки, обязанного всем и ненавидящего за это всех.
Перед уходом наскоро поздравили бледных художественных женщин. Те уже выпили, но товарищи отбились легко.
— Мы вернемся, — пообещал Черниллко, — и зададим жару.
Скульптор не шутил. Это так рассмешило женщин, что заменило подарки.
…Франкенштейн встретил гостей дружелюбно. Едока чебуреков, кстати заметить, звали иначе, но прозвище прилипло к нему по роду деятельности. Многие путают доктора Франкенштейна с его творением, но ко всеобщему удобству едок сочетал в себе признаки того и другого. Он напоминал горного тролля из тех исполинов, что в перспективе нетрудно принять за горную вершину, прикрытую шапочкой снега; в последние мгновения жизни альпинист открывал, что снег – седина, а его ледоруб зацепился за нижнее веко чудовища и причиняет тому некоторое неудобство.
Дальше разевался хищный рот и все такое.
Люди, не чуждые ханжества, старались держаться подальше от Франкенштейна. Водиться с ним считалось дурным тоном. Подать ему руку в светских кругах было тем же, чем в уголовном мире считается «зашквариться», обнявшись с чушкарем или петухом. Ортодоксальные круги, явственно улавливая запах крови благодаря обонятельным галлюцинациям, обвиняли Франкенштейна в иудо-каннибализме и жаловались на мистическое закалывание свиньи в его галерее.
Выдумщик Франкенштейн, тем не менее, с удовольствием и непредсказуемым образом общался со всеми подряд: умел расцеловать с первых секунд знакомства, а еще раньше – ударить в морду.
— Видели каталог экспозиции Деттмера? – спросил он у коллег вместо приветствия, едва те присели за столик. – Брайан Деттмер. Он снова стрижет креатив из книг.
Черниллко покачал головой:
— Нет, не видели. У нас…
Франкенштейн ловко поймал струйку бульона и продолжил, не слушая:
— Особенно хороши анатомические атласы. Произвольная нарезка из иллюстраций, вставленная в переплет. Малевичи могут сосать.
Лев Анатольевич невидящим взором смотрел в окно, за которым одинокая аварийная машина что-то удила хоботом в люке.
— Мы к тебе по делу, — не уступал Черниллко. – Ты хочешь эксклюзивного креатива? Он у тебя будет.
— Ну? – Франкенштейн начал есть с ироническим недоверием.
— Живой экспонат.
— Было сто раз, — махнул чебуреком тот. Чебурек смахивал на распухшее слоновье ухо.
— Такого не было. Экспонатом будет Лева.
— Сосите, ребята, — Франкенштейн утратил интерес к беседе.
— Лева, скажи ему, — озлился Черниллко.
— У меня сифилис, — объяснил Титов. – Люес примария. Первичный аффект.
— Рад за тебя, — сумрачно отозвался креативный Франкенштейн.
— Краски прямо переливаются, — заметил скульптор. – Напряженная работа природы. Представляешь, какая выстроится очередь?
Тот молчал и с интересом доедал свою дрянь.
— Понятно, — сказал Черниллко, вставая. – Мы пойдем к новым передвижникам.
— Пускай сосут, — предложил Франкенштейн.
— За отдельную плату. По цене детского билета. Пошли отсюда, Лева.
— Стойте, — сказал Франкенштейн.
6
В галерее было пустынно, голые стены. Никакой мебели, кроме стремянки в углу; ступени заляпаны белой краской. С потолка свисал короткий оголенный провод без лампочки; он внимательно следил за людьми в надежде, что кто-то за него возьмется, и жизнь будет прожита не зря.
Места не хватало даже для вакуума, ребячливое эхо пребывало в унылом разочаровании, не находя пространства побегать, обманутое пустотой.
Серый свет изливался с улицы в стеклопакет, март мутило, праздничные салаты просились на выход. Титов подергивался от холода, а Франкенштейн придирчиво изучал материал с видом опытного лаборанта, рассматривающим спирохеты в темнопольный микроскоп.
— Мелковато, — проворчал он. – Ты можешь дать план покрупнее?
— Мы тебе картинку повесим напротив, — подхватил Черниллко. – Эротическую.
— Минуты на две, но не ручаюсь, — сказал Титов.
— Дольше ты вообще не умеешь, да?
— Ничего, — быстро вмешался скульптор. – У него и повода не было никогда. Приурочим, например, к полуденному выстрелу с Петропавловки. Будет у нас, как павлин в Эрмитаже. Тот ведь редко двигается. Хвост распушит, прокукарекает – и привет. Можно повысить плату для тех, кто придет минута в минуту.
Лев Анатольевич слушал его с надеждой. Перформанс виделся ему событием отдаленного будущего, а пока в галерее, вполне безопасной и безразличной, его поначалу пугали проблемами и тут же их разрешали; он видел, что для друзей нет ничего невозможного.
— Темновато здесь, — озабоченно отмечал Черниллко. – Надо поставить софиты.
Франкенштейн сосредоточенно кусал губу:
— Нет, софиты не годятся… Нужна подсветка снизу. Вроде рампы…
— Тогда рожа останется в темноте…
— А кому нужна его рожа? Ты прогуляйся по Невскому, полюбуйся ансамблем. Светится ниже крыши…
— А шпиль? Шпиль?
— Шпиль у него будет видно, не беспокойся…
— Можно надеть штаны? – спросил Лев Анатольевич.
Франкенштейн посмотрел на него осуждающе, недобро.
— Озяб? А как же ты думаешь стоять тут днями?
Об этом Титов не подумал. Он беспомощно посмотрел на скульптора в ожидании чуда.
— Мы обогреватель поставим, — бодро сказал Черниллко.
— Ты что! – Франкенштейн был полон презрения. – Меня пожарные закроют. Мгновенно. Они не разрешают. Они только и ждут, когда я сваляю дурака.
— Тогда намажем его гусиным жиром.
Теперь в глазах Франкенштейна зажегся интерес.
— Это любопытно… он будет отблеск давать… матовый…
— Отзыв, матовый, — буркнул Титов.
— Терпи, — улыбнулся Франкенштейн. – Оставь отзывы зрителям.
— У меня ноги отвалятся стоять целый день.
— Ты за ноги не переживай. Как бы другое не отвалилось.
— Мы тебя на стул посадим, — вмешался Черниллко. – В самом деле – зачем ему стоять столбом? Слава богу, не Аполлон. Пусть сидит понуренный. И назовем это как-нибудь подходяще, с ноткой экзистенциальности.
— Ты же сам предлагал – «Венеризм».
— Слишком прямолинейно. Лучше так: «Без семьи». Тут тебе и экзистенциальный пласт…
— План.
— Пласт… и еще межличностный… и социальный…
— Но метафизики все равно маловато.
— Да уж побольше, чем в венеризме.
— А какой мне пойдет процент? – тявкнул Лев Анатольевич. – От сборов?
— Хороший, — небрежно ответил Франкенштейн. – И на бициллин хватит, и на доктора.
Титов огляделся по сторонам.
— Здесь не на чем сидеть… где же стул-то?
— Действительно, — Черниллко напряженно уставился на Франкенштейна. Тот помрачнел:
— Ну… стул… Ну, арендуем стул… возьмем напрокат. В копеечку вы мне влетаете, братья по цеху.
Лев Анатольевич уныло подумал о рампе. Ему почудилось, что ее не будет.
Так и вышло.
7
С открытием выставки решили не тянуть. Ее открыли через два дня; эти дни ушли на развешивание по стенам дополнительных экспонатов и оповещение прессы. Общественности пообещали сюрприз; Лев Анатольевич уже привыкал к своему сюрпризному качеству, которое в своем младенчестве выглядело совершенно безобидным и проявлялось в подкарауливании натурщицы.
Франкенштейн долго думал над композицией. Он решил сделать Льва Анатольевича изюминкой и гвоздем, а потому было простительно захотеть поначалу расположить Титова по центру, чтобы все с порога шагали к нему. Но в этом излишествовала прямолинейность дилетанта, и Льва Анатольевича поставили в темный угол, сэкономив на освещении. И он не бросался в глаза, его нужно было открыть для себя и вознаградиться катарсисом. Франкенштейн обошелся без рампы. Поскольку посетители могли не додуматься до микроскопии, он сфотографировал главное и вручил Титову огромную цветную фотографию, чтобы тот сидел и держал ее.
В приглашениях, правда, все-таки содержалась рекомендация задержаться у композиции «Без семьи», так как иначе прекрасный замысел выставки не будет уловлен в его целокупности.
В этой композиции, говорилось в приглашении, сосредоточена суть художественного акта.
И еще там содержалось признание в благородстве: весь сбор от выставки пойдет на жизненное устройство экспоната.
В душе Франкенштейн очень радовался Титову, потому что поленился и для прочих работ понабрал первой дряни, какая попалась под руку. Выскреб из рам прошлогодний мусор, наклеил новый, наскоро выстроил башни из пивных банок, разбросал собачье дерьмо и окончательно самовыразился через геморроидальную свечу в старинном подсвечнике. Все это был вчерашний день, как и основные мировые религии, которые Франкенштейн последовательно обогащал новым видением – чем и снискал себе в свое время лихую славу. Мусульмане грозились отпилить и взорвать ему голову, радикальные православные ортодоксы – просто начистить рыло, иудеи обратились в суд, буддисты помалкивали. Он ухитрился насолить даже славянским язычникам, хотя специально ими не занимался; в последний раз его галерею разгромили ужасного вида гориллы с солнцеворотами на рукавах. Предупредили его, что древний спящий богатырь уже просыпается и скоро посадит Франкенштейна на кол.
Крупная газета тоже обратила на него внимание и высказалась в пользу кола.
Но мировых религий не так уж и много, да и вообще со святынями напряженно. Отмечать Дни Победы и Защиты детей Франкенштейну не разрешили. Он огорчился и даже почитал в отместку психоаналитиков, у которых рассчитывал нарыть архетипов и символов, дремлющих в личном и коллективном бессознательном, а потом выставить их в авторской версии и тем затронуть дикие тайные струны человеческого восприятия. Собственно говоря, именно это он сделал, сооружая последнюю экспозицию, но его терзали дурные предчувствия. Он опасался, что общественность не узнает жителей своего подсознания. И Лев Анатольевич стал тем, что в гештальт-психологии называют фигурой, а прочие экспонаты – подобающим фоном. По мнению Франкенштейна, первичный аффект в сочетании с первоначально собранной помойкой являл собой восхитительный аналог индивидуальной души.
На сей раз он попал в точку.
Едва распахнулись двери галереи, компания папарацци столпилась перед скорбной композицией «Без семьи», защелкала фотоаппаратами. Черниллко стоял в стороне и посасывал трубку, ядовито улыбаясь. Франкенштейн маячил позади репортеров, выпятив широкую грудь с пышным бантом и широко расставив короткие ножки. Нефритовый стебель Льва Анатольевича пребывал в состоянии пониженной боеготовности, так что фотографы подбирались вплотную; Титов и сам оказался фоном, тогда как аффект – основной фигурой, что создавало гештальт в квадрате; его душевное состояние, отражавшееся на лице, представало второстепенным и виделось не то причиной, не то следствием, то есть будущим или прошлым; аффект же был ускользающим настоящим, и его спешили запечатлеть.
— Гадость, — громко сказал кто-то.
Франкенштейн расцвел.
Титов, огорченный и плохо соображающий, встал и прикрылся фотоснимком; посетители пришли в недовольство: экспонату заказано вольничать. Черниллко подошел, взял Титова за плечо и бережно усадил на место.
…Когда первая волна схлынула, а вторая так и не накатила, Франкенштейн закрыл галерею на обед, и Лев Анатольевич ел и пил.
— После обеда начнется, — потирал руки хозяин.
И не ошибся: началось.
8
О скандальной затее вскоре узнали все, кого это касалось.
Первой, сама не зная зачем, приехала пожарная инспекция. Она покрутилась, сама собой поражаясь, и быстро отчалила. Следом пожаловала инспекция санитарная.
— Что это здесь такое? – главарь этой шайки начал изумляться еще на улице, еще ничего не повидав.
Лев Анатольевич в это время ходил и разминался, делал зарядку. Случайных посетителей не было, и ему позволили сойти с места. Он пообедал.
— Сифилис, — с достоинством ответил Франкенштейн. – Первичный аффект.
— Ну так я вас закрою, — удовлетворенно кивнул инспектор. – А вашего развратника посажу в больницу для творческих, одаренных людей.
Лицо Франкенштейна налилось кровью. Черниллко быстро выступил вперед:
Он свернул кукиш, но показал его очень быстро и сразу спрятал руку в карман.
— Не получится, — выпалил он. – Не имеете права. Нету больше такой статьи.
— Вам законы напомнить? – ощерился душитель свобод. – Вы знаете, что бывает за умышленное заражение?
— А кого же он заражает? – недоуменно вопросил скульптор. – Этот шедевр не передается по воздуху. И даже при рукопожатии. Да вы на него посмотрите – кому захочется от него заразиться?
Инспектор пришел в замешательство. Действительно: никто и никого не заражал.
— Посмотрим, — пробормотал он с ненавистью и вышел из галереи.
Титов между тем перешел к приседаниям.
— Если хочешь быть здоров – закаляйся, — одобрительно протрубил Франкенштейн. В этот момент в галерею вошли случайные искусстволюбы, и Лев Анатольевич, схватив пояснительную фотографию, поспешно сел на место.
Санитарный инспектор не вернулся.
Вместо него прибыл серьезный человек, содержатель крупного газетного холдинга. Это был грузный седогривый лев, исполненный очей, по совместительству – орел небесный, ибо слыл уроженцем кавказских гор. Но может быть, то были долины. Он мог позволить себе одеваться на манер шикарного папика, однако предпочитал джинсовую простоту; лев молодился и рыкал, раскрывая золотозубую пасть; из выреза футболки топорщилась грудная грива. Матерно рыкая, засоряя мир идеальных форм похабными умопостроениями и предчувствием простатита, лев остановился перед Львом Анатольевичем и пренебрежительно скривился. Он поковырялся в мохнатом ухе, и Франкенштейн подошел ближе.
— Ну и в чем тут цимес? – осведомился магнат.
— Да цимес там же, где у твоих алён и филиппов, беременных от пришельца третьим разводом, — отозвался Франкенштейн. – Дело верное. Для первой полосы.
Лев покрутил башкой.
— Я многое могу, но даже я не сумею повесить это на первую полосу. В цвете.
Тот пожал плечами:
— Заретушируй. Читатели еще сильнее возбудятся.
Магнат пощелкал пальцами:
— А драма где?
— Тебе мало драмы?
Они приятельствовали давно; магнат сколотил состояние на расчленителях и бракосочетаниях порнозвезд. Его стараниями маленькая галерея Франкенштейна со всем ее эксклюзивным ливером распухала до размеров Лувра, а уж по значимости для общественного мнения превосходила последний десятикратно.
Они беседовали, не замечая присутствия Льва Анатольевича. Черниллко скромно молчал, всегда готовый генерировать идеи и ждавший, когда его пригласят.
— А нос у него скоро провалится? – задумчиво спросил издатель. – А мозги потекут? Общественность хочет интриги.
— Да ты посмотри на его нос! – Франкенштейн схватил Титова за уши и повернул к магнату лицом. – Куда ему дальше проваливаться?
— Ну так это он такой уродился. Ведь правда? – обратился магнат к экспонату.
Лев Анатольевич был вынужден кивнуть.
— Не пишите, что уродился, — вмешался Черниллко. – Оставьте читателям пространство для воображения. Читатель сам додумает интригу – не в этом ли задача литературы? И вообще искусства. Про Черный Квадрат додумали, чего и не было. А не было ничего.
Магнат с интересом посмотрел на скульптора.
— Вы еще будете мне разъяснять задачи литературы, — пробурчал он. – Хорошо, я поставлю на первую полосу.
9
Газета вышла, и загудел резонанс.
Лев Анатольевич сердито перечитывал заголовок: «Мутант-сифилитик идет с молотка».
— Почему же мутант? – возмутился он.
Черниллко восторженно аплодировал и смеялся; результат начинал превосходить его ожидания.
— Там все мутанты, особенно которые с эстрады… Не замечал? Мы их подвинули, дружище. Теперь застолбим авторские права и настрижем процентов с сувениров. Матрешки начнутся, игрушки, маечки, кепочки…
Посетителей заметно прибавилось. Очередей не было, зато приходили сплошь важные люди, хорошо знавшие, чего хотят. Газетный магнат, оприходовав сенсацию, мгновенно забыл о Льве Анатольевиче. Он относился к сенсациям, как относятся к придорожным труженицам тыла и переда. Он разрядил обойму и пошустрил себе дальше вразвалочку. Но камень – он же семя — был брошен, и круги разошлись – они же разветвились ростки, сплетаясь в плющ.
Явилось радио, столкнувшееся в дверях с телевидением. Они долго препирались, не уступая очереди.
Титову дали слово. Вернее, взяли его у него.
— Так, это все неинтересно, — нетерпеливо констатировал репортер, когда Лев Анатольевич замолчал. – Ваши рассуждения об искусстве очень содержательны, но вы берете чересчур высоко. Наша аудитория – люди простые. Расскажите, где и как сильно у вас болит.
— Оно совсем не болит, — отрезал Лев Анатольевич. Он уже свыкся со своим положением и начинал ощущать себя королем на горе. В нем проступила творческая надменность, а самомнение дернулось вверх.
— Это плохо, — интервьюер пожевал губами. – О чем же писать?
Лев Анатольевич положил фотографию на колени.
— Болит вот здесь, — сказал он проникновенно и прижал руки к груди.
— Это хорошо. Гриша, возьми крупный план, — обратился репортер к кому-то за плечом. – Но ваше лицо ни черта не выражает. Харизма есть, но застывшая.
— Лева, поплачь, — попросил Черниллко.
Сознавая, что скульптор худого не посоветует, Лев Анатольевич скривил сухое лицо.
— Не надо крупного плана, — приказал репортер оператору.
…Счастливый Франкенштейн знакомился с медийными материалами, где выставку называли хамством, идиотизмом и развратом.
Кто-то бросил в окно кирпич, и об этом сразу же написали, приглашая к дискуссии.
— Я не художник, — застенчиво признавался Франкенштейн. – Я собиратель. Перечитайте Шопенгауэра. Наш экспонат выражает безрассудную волю, и я постарался, чтобы вы получили о ней представление. Это цветок бытия. Это вброшенность цветка в бытие, перечитайте Хайдеггера. Если это бытие вас чем-то не устраивает, это ваши проблемы. Можете не быть. Можете сдохнуть.
Державший нос по ветру газетный магнат ненадолго вернулся к покинутой теме. В его газете написали, что экспонат под названием «Без семьи» вынашивает планы переменить пол и выйти замуж за известного телеведущего, который тайно уже тоже давно изменил пол и подумывает родить экспонату двух сиамских близнецов. Генетики-консультанты обещают, что левый родится с деревянным протезом, а правый будет перемножать в уме шестизначные числа.
После этого Черниллко предложил опубликовать номер счета и собирать пожертвования. По его мнению, время настало.
Титова пригласили в политические теледебаты и еще в одно жюри, судить викторину для старшеклассников.
Вскоре галерею посетил доктор, не столь давно отказавшийся вылечить Льва Анатольевича. Доктор был деловым человеком и сделал Титову интересное предложение.
10
Доктор выглядел респектабельно и выказывал почтение, которого Лев Анатольевич при первой встрече не уловил. Доктор произвел на него впечатление жестокого весельчака, однако нынче держался серьезным и давал понять, что готов общаться на равных.
Черниллко всячески оберегал экспонат от разрушающего воздействия любопытной среды. Он подскочил со словами:
— Экспонаты трогать руками не разрешается.
Добавил:
— Отвлекать их разговорами тоже нельзя.
— Я поговорю, все равно больше никого нет, — возразил Лев Анатольевич. – Это доктор.
Скульптор подозрительно уставился на врача:
— А зачем он пришел? Мы доктора не вызывали!
— Это активный патронаж, — значительно изрек доктор. – Я не футболю больных.
— Разве? – Черниллко подбоченился. – А кто захотел от больного много денег?
Тот поправил очки:
— Рынок суров, но рынок же обязывает нас к поиску нестандартных ходов. Мы изыскиваем возможности и пространство для маневра. И я изыскал.
— Нам ваши маневры без надобности. Нас тоже обязал рынок.
— Неужели вы не хотите поправиться? – доктор озабоченно обратился к Титову. – Ведь у вас и вправду провалится нос. Газеты не врут. И вы станете аморальным идиотом.
— Не станет, — парировал Черниллко. – Он такой с рождения.
— Я вылечу вас бесплатно, — врач перестал обращать внимание на скульптора. – А вы за это сделаете так, чтобы про меня написали.
Лев Анатольевич задумался. Он уже сроднился с аффектом, не испытывал никаких неудобств. Доктор выложил козырь:
— Все равно эта шишка скоро рассосется. Жизнь беспощадна. Вам нечего будет показывать. Через пару лет появится сыпь, но это никому не интересно. У всех есть какая-то сыпь. А когда еще через несколько лет вы отупеете, вас уже позабудут и перестанут выставлять. Будете выступать в театре для дебилов на школьных утренниках.
Черниллко растерялся. Такого он не ожидал. Лев Анатольевич понял, что небеса сыграли с ним в кошки-мышки, будучи хищными кошками. Небесам надоело, и они выпустили когти; тучи разъехались, и показались вострые молнии. Прогноз явился хорошо забытой новостью. Все знают, как развивается эта болезнь, но никто не примеряет это развитие на себя.
— Я не скрываю своего интереса, — продолжал доктор. – На рекламу уходят огромные деньги. А вы скоро получите статус национального достояния. Вас даже не пустят за границу. Произведениям искусства это запрещено. Так что можете забыть об альпийских курортах и современном лечении.
— По трупам идете, — проскрежетал Черниллко.
— Ничего подобного. Я иду по живым.
…Франкенштейн, плохо разбиравшийся в болезнях, пришел в уныние, когда ему растолковали, что аффекта не станет. Композиция «Без семьи» грозила обернуться ледовым дворцом, который растает с приходом жестокой весны. Франкенштейн не уставал повторять, что искусство вечно, и никогда не строил песочных замков, но вот нарвался, и теперь был готов рвать на себе волосы. Доктор взирал на него с симпатией и сочувствием, напоминая при этом, что медицина не всесильна. Аффект пройдет.
Не видя выхода, Франкенштейн согласился. Если закат неизбежен, то белый день нужно выдоить досуха. Пришествие спасителя подогреет интерес к происходящему, сообщит ему динамику, и звезда воссияет прощальным светом. Поступления на счет прекратятся, но слава продолжится.
— Ерунда, — буркнул Черниллко. – Во-первых, он все равно не поправится. А во-вторых, аффект можно нарисовать. Или мы не художники?
Франкенштейн ответил отказом. Он был противником жульничества.
— У меня все натуральное, свежее, — сказал он надменно. И повернулся к доктору, изобразив на лице торжественное смирение: — Лечите. Я приглашу прессу.
11
Доктор прославился.
На первой странице все той же газеты появилась большая цветная фотография: эскулап пожимает Титову руку, как при встрече на низшем уровне, а в другой руке, высоко поднятой, держит шприц. Крупными буквами было набрано: «Памятник искусства по угрозой». Ниже, помельче, стояло: «Гримасы милосердия».
Доктора немедленно пригласили в популярное ток-шоу, где он блистательно выступил в теледебатах и наголову разнес своего коллегу-гомеопата.
Лечение Льва Анатольевича скопировали в мобильный телефон – якобы скрытно, под соусом вмешательства в личную жизнь, чтобы всем стало интереснее. Из мутного кино можно было понять, что доктор вкалывает ему лошадиную дозу чего-то полезного. Лев Анатольевич соответственно всхрапывал, а доктор похлопывал его по пояснице; лечащая рука отсиживалась в резиновой перчатке. Фильм отправился гулять по свету, и перед лекарем распахнулись двери в высшее общество. Попав туда, он сам удивился своей востребованности. Он начал пописывать философские этюды, намекая, что ничто человеческое не чуждо ему, в том числе и философия; он скромно замечал, что если раньше модными были заболевания, то теперь модными сделались медики. Приоритеты сместились, констатировал доктор. Человечество поумнело.
Доктор купался в славе, а Франкенштейн, откусивший часть ее, готовился к закрытию сезона.
Интерес к Титову снижался. Черниллко старался выглядеть веселым и бодрым.
— Мы прилично приподнялись, — повторял он без устали, убеждая себя самого. – Надо было устроить аукцион и продать тебя. Логично и красиво, финальный аккорд. Задним умом все крепки.
Лев Анатольевич, вкусивший известности, печалился об автографах, которые у него спрашивали все реже и реже. Он открыл, что графика автографов дается ему куда лучше живописи и доставляет большое эстетическое удовольствие. Он только-только нашел себя, и вот все заканчивается. И еще было ясно, что заработанных денег надолго не хватит. Он может позволить себе маленький угол, где будет некоторое время питаться, но горизонт истирался в пыль, и небо уравнивалось с землей, и оба не радовали.
Титов приготовился паковать чемоданы.
Это были потертые метафорически-метафизические чемоданы, жизненный багаж, для надежности перехваченный бельевыми веревками. Они немного распухли от пожертвований, но не стали новее. Лев Анатольевич, нагой и сирый, печально стоял с ними, наблюдая закат, от которого не ждал ничего хорошего. Своя ноша тянула. Он ощущал себя звездой, навернувшейся с небосклона. Иногда ему вспоминалось высокопарное – о, как упал ты, Утренняя Звезда; намного чаще звучало нечто попроще – «с неба звездочка упала». Единожды воспарив, Лев Анатольевич возвращался. И в небе, и на земле – повсюду был один и тот же Лев Анатольевич, ибо что наверху, то и внизу.
Доктор больше не приходил. Черниллко приходил реже, Франкенштейн не появлялся вообще, и Титов скучал, доживая последние дни среди уродливых подобий и образов.
Он не догадывался, что его новейшая биография напоминает буферный раствор – тягостную фазу преображения, в которой внешне ничего не происходит: и все-то льют, и все-то подливают из кастрюль и мензурок, но ничто не меняется. Так часто случается в жизни: события, не столь давно ее изменявшие к худу или добру, продолжают струиться, однако штиль остается штилем, что совершенно непонятно и раздражает. Возникает иллюзия, когда кажется, будто ранее действенное сделалось бесполезным, и нужно попробовать что-то другое.
А лучше не пробовать, нужно потерпеть.
Лев Анатольевич потерпел, и произошел взрыв. Графическая кривая взбесилась.
Пришла натурщица.
12
— Это статья, девонька, — задумчиво произнес Франкенштейн, в мыслях уже названивая газетному магнату, чтобы подарить того новым рублем и поздравить с ним же.
— Статья, — одобрительно закивал Черниллко. – Это оно самое и есть – умышленное заражение.
— Какая статья? – закричал обычно молчаливый Лев Анатольевич. У него прорезался голос. – Какая-такая статья? Я же не возражаю!
— Это верно, — согласился Франкенштейн.
— Тут будет юридическая тонкость, — заметил Черниллко. – Может быть, его согласие и подействует. Но если суд признает, что он не отвечает за свои поступки и не мог осмыслить происходящего…
— Почему же я не могу осмыслить?..
— Есть понятие о невменяемости… она бывает вызвана, например, умственной отсталостью. Так что у меня опасения.
— Хрен им чего докажешь, — согласился Франкенштейн.
— Я не отсталый, — Титов поджал губы. – Я скажу, что это любовь. Пусть опровергнут. Жены декабристов поехали в Сибирь… а там сифилиса – заповедник.
— Почему же там заповедник?
— Потому. Вот Ленин в Шушенском заразился.
— Шушенское – в Сибири? – Черниллко неуверенно посмотрел на Франкенштейна.
Тот не стал спорить:
— Где-то там. Девонька, — вновь обратился он к натурщице, — зачем вам этот ленинский декабрист? Помимо славы. Подумайте хорошенько. Вы мне годитесь в доченьки, так что доченька. Подумай. У вас еще не все позади, немножечко еще впереди.
Натурщица снисходительно улыбнулась:
— Я хочу быть фотомоделью. И еще он мне нравится.
— Это замечательно, — встрял Черниллко. – Еще одна невменяемость. Никакой статьи.
— Это настойка с ногтями, — пробормотал Титов и вовремя осекся. На его слова не обратили внимания. Он мог еще и не такое сказать.
— И вообще я имею право, — напомнила гостья. – Эта холеная клизма стрижет купоны за дерьмовый укол, а я не при делах. Без меня у вас вообще никакой выставки не было бы. Мне причитается пай.
Она хищно взглянула на Льва Анатольевича, готовая сию секунду нырнуть в лучи его славы.
Черниллко почесал подбородок.
— Придется составить бумагу. Пригласим нотариуса, пусть зафиксирует согласие сторон. Иначе если не засудят, то замучают.
— Вы не возражаете против видео? – осведомился Франкенштейн. – Люди любят кинодокументы. Ваш самоотверженный поступок исключительно красив, и сами вы ничего. В этом и заключается ненатужное естественное искусство – красота, спасающая мир. Люди должны увидеть, как она спасает. Я только это и делаю — дарю людям искусственную естественную красоту.
— Да пожалуйста, — ответила та.
— Стопроцентная порнография, — не согласился скульптор. – Очень опасно. Нас посадят на одну скамью с педофилами, некрофилами и черт знает с кем еще.
— Мы запустим квадратик, — сказал Франкенштейн.
— Какой еще квадратик?
— Квадратик. Будет прыгать по фильму и прикрывать красоту. Зрителю нужно оставить пространство для воображения.
— И писк добавить, — подсказал Лев Анатольевич.
— Зачем? – недовольно нахмурился Франкенштейн, тогда как Черниллко, все схватывавший на лету, одобрительно кивал. – Что за писк?
— Ну, как в новостях. Обычное дело. Передают новости, и матерные ругательства заменяют писком. Или это гудок у них такой, или свисток и зуммер.
— Да откуда же взяться ругательствам?
— Я буду, — потупился Титов.
— Да, — подтвердила натурщица. – Из него вылетает на пике.
— Больше из него ничего не вылетает?
Титов пожал плечами.
— Один раз было, очень давно. Мы только поженились.
— Трогательно, — заметил Черниллко. – Хорошо бы подгадать. Буйство жизни, торжество над тленом.
— Тлен это ипостась жизни, — закипятился Франкенштейн. – Вроде бы нормальный человек, а туда же. Глаза зашорены, как у гламурного обозревателя.
Разгорелся обычный в художественных кругах спор. Натурщица метала в Титова голодные взгляды, из чего тот заключил, что в его ногтях не меньше силы, чем в оленьих рогах, из которых готовят общеукрепляющие лекарства.
13
Ворожея пришла, когда Лев Анатольевич потеснил в общественном сознании национальные развлекательные телепрограммы. Улицы расцвели тревожной и сладкой весной, но она приехала в белой шубе нараспашку; вывалилась из богатой машины и важно проследовала в галерею, обещая всем видом тысячу и одну ночь; ночи побитыми псами плелись за ней следом.
С порога ворожея затрубила, что если бы не она, то ничего бы и не было.
— Мадам, — подбежал Франкенштейн, поглаживая свитер на большом животе.
— Я могу обрушить на вашу галерею водопад счастья, — предупредила ворожея. – Вам будут прислуживать звезды, и Зодиак обратит на вас пристальное внимание. Я все изменю. Рыбы станут для вас Близнецами, а Близнецы станут Раком. Но если вы мною пренебрежете, то я вашу галерею прокляну.
Она подбоченилась, смерила Льва Анатольевича придирчивым взглядом.
— Я советую вам повторить приворот. Я маг, но только второй ступени…
— Вы что же, кого угодно можете к нему приворожить? – уважительно осведомился Черниллко.
— О да, это пустяки. Могу вас, его… — Она указала на Франкенштейна.
— Мадам, — быстро сказал Франкенштейн, — воздержитесь. Я обещаю вам столько эфирного времени, что вы заколдуете всех телезрителей.
Та надменно кивнула:
— Могу. Вы сами видите, что я творю чудеса. Вы обязаны мне решительно всем. Без меня у вас ничего не вышло бы.
Натурщица, до этого обнимавшая Титова за короткую шею, встала рассерженная:
— Много на себя берете! Как будто я пустое место.
— Свято место пусто не бывает, — в галерею проник доктор, держа в руке старомодный чемоданчик. – Я читал газеты, смотрел телевизор. Похоже, вам снова нужна моя помощь.
Папарацци, присланные газетным магнатом и круглосуточно дежурившие в галерее, образовали кольцо. Внутри кольца очутились все звезды, четыре штуки, они образовали созвездие квадрата, и Франкенштейн с Черниллко независимо друг от друга подумали, что теперь Малевичу точно крышка.
Ворожея пошарила в кармане шубы, и во лбу засияло нечто вроде алмаза. Она развела руки и пустила горбатый мостик из зловещих игральных карт.
— Ваша звезда никогда не закатится, — пообещала она неизвестно кому, поворачиваясь то так, то этак. Сверкали вспышки, дыбились лесом эрегированные микрофоны с вытатуированными логотипами телеканалов. Лев Анатольевич обрел уверенность в себе: дозировал интервью, осмеливался давать спортивные и политические прогнозы. У него появились двойники, благо эпидемиологическая ситуация в государстве была не из лучших и за первичными аффектами не нужно было ходить далеко. Рок-группа «Титов» собирала стадионы; пищевики наладили выпуск одноименных леденцов, пряников и эскимо.
Франкенштейн перешел с чебуреков на устрицы, от которых его тошнило, но он ел, поддерживая общественный интерес.
Черниллко порхал серым менеджером-кардиналом; он не искал славы и почестей, ему было просто приятно. В его голове зарождались планы новых выставок, где можно будет представить и другие неприятные медицинские ситуации.
С приходом ворожеи Лев Анатольевич сделался постоянным фигурантом не только светской, но также эзотерической хроники. Он попал на страницы изданий, далеких от мира искусства, и насладился обществом колдунов, гипербореев, космических зеленых людей и мелкой невидимой нечисти, гремящей кастрюлями в порабощенных кухнях. Очень скоро им заинтересовалась серьезная пресса. Конечно, ничто не может быть серьезнее гипербореев, но солидные издания с экономическим и политическим уклоном почему-то обходят эту публику вниманием, предпочитая интересоваться курсом валют. Однако место, которое завоевали Титов и его окружение в сознании читающей публики, то бишь электората, побудили о нем написать.
Льва Анатольевича осыпали градом ругательств. Франкенштейну, понятно, досталось куда больше. Галерею назвали клоакой, хозяина – копрофагом; в калоедении Франкенштейна предполагали мистическую основу, сюда же кстати присобачивая ворожею; всех участников обвиняли в распутинщине, хотя они еще не особенно влияли на правящие круги, и заинтересованные люди еще только начинали присматриваться к Титову как к возможному депутату.
Моментально нашлись люди, которые поняли все это как травлю и организовали пикеты в защиту Титова. Они выставили лозунг «Руки прочь!», не слушая оппонентов, которые возражали на это, что никто и не собирается трогать Льва Анатольевича руками. Пикетчики разбушевались и принародно сожгли атлас кожных болезней.
Все это привело к тому, что в галерее появилась жена Титова.
— Любушка! – растрогался тот.
14
Супруга Льва Анатольевича была женщиной оборотистой. Она без предисловий взяла Франкенштейна за жабры так, что тот выпучился и временно потерял дар дыхания.
Первым делом она сунула ему под нос паспорт.
— Мы состоим в законном союзе, — сказала она заносчиво. – И если бы не я, вы все сосали бы лапу…
Натурщица мечтательно закатила глаза, а Черниллко ядовито осведомился:
— Но разве не вы его выгнали, сударыня? Не вы ли отправили на свалку дорогостоящий экспонат?
— Конечно, я, — отозвалась жена Титова. – И вот что получилось. А если бы он сидел дома?
— Вы, вы, — поспешно закивал Франкенштейн. – Все вы. Сплошная заслуга. Без вас не вышло бы никакого аффекта.
— Совершенно верно, — подала голос ворожея, и жена Титова метнула в чародейку зрительную молнию, как будто хотела понаделать из нее одноименных конфет.
— Да, — согласился Черниллко. – Он не мог не уйти. На поиски аффекта. Любой побежит.
— Я требую сменить название, — заявила жена Титова. – Почему это – «Без семьи»? Это мой муж. Переделайте! Пусть будет «В семье», или просто «Семья».
— Юридически это правильно, — осторожно ввернул доктор. – И фактически – тоже.
— Но это бренд! – всплеснул руками Франкенштейн. – Торговая марка!
— Будет две, — задумчиво возразил скульптор. – «Семья» — это концептуально. Все не так безнадежно. Новый поворот темы. Искусство – живое… Произведение искусства, отпущенное на волю, обретает самостоятельность. Оно начинает жить своей жизнью без оглядки на творца, пример чего мы и наблюдаем…
— Вот это правильно, — подхватила жена Титова. – У нас своя жизнь, и я не пущу до корыта всяких таких. Только и норовят погреться возле корыта.
— Это я всякая-такая? – оскорбленно вскинулась ворожея. Натурщица выгнула грудь тракторными колесами, а доктор поджал губы. – Вы хоть знаете, чего мне стоит держать звезды в узде? Все для него – и бабы две штуки, да семья, да денюжки, да мировая известность – и после этого я такая-всякая?
— Про динамику забыли, — мрачно напомнил доктор.
— Если по справедливости, то выставлять вообще нужно меня одну, — заметила натурщица. – Это мой аффект, и я без семьи. Вы нарушили мои авторские права и правду жизни…
— Вы передвижница, — раздраженно бросил в ее строну Франкенштейн. – А я новатор.
Догадываясь, что назревает ссора, Черниллко решил взять управление на себя.
— Все мы вчера передвижники, а сегодня новаторы, — изрек он философски. – А завтра – наоборот. Не нужно раздоров, мы все поместимся. Помните сказку про дождик и гриб? Вроде бы тесно, а влезли все! Гриб-то вырос!
Возразить ему было нечем. Гриб действительно вырос.
В том числе настоящий, у Льва Анатольевича, как осложнение сильного докторского лекарства, но с этим быстро справились, и рассказывать об этом незачем.
15
Титов угодил в западные каталоги.
К нему начали подбивать клинья музейные люди, то бишь государственные мужи, а также держатели частных коллекций. Движение «За первичный аффект» устроило парад ликования и потребовало себе равноправия, парламентской квоты и ночного эфира. «Мы такие же, как ты, — объясняли его активисты, и пассивисты согласно кивали. – Сегодня ты против нас, а завтра ты с нами».
Власти усмотрели в этих словах шантаж и угрозу; прокуратура засучила рукава.
Франкенштейну с Черниллко было не до нее, они готовились к зарубежной выставке. Возникло серьезное осложнение: какой-то гад назвал Льва Анатольевича национальным достоянием и запретил вывозить; Черниллко приводил в пример коллекции Эрмитажа, на что таможенный чин резонно ответствовал, что у Эрмитажа ноги не вырастут и он не сбежит в какую-нибудь частную коллекцию. Франкенштейн проклинал себя за длинный язык: статус достояния он выбил для Титова лично, а теперь никто не хотел слышать, что достояние – верноподданный гражданин с заграничным паспортом.
— Центр Помпиду! – Франкенштейн крутился волчком и распространял слюнявые брызги; слюна вилась вокруг него наподобие сатурнова кольца. – Бобур! Матерь их в тачку!
— Вы можете заколдовать этих мерзавцев? – Черниллко обратился к ворожее.
Та уныло выпятила губу:
— Они защищают интересы Родины. Отворот от Родины – ужасно трудная задача. Конечно, приворот куда труднее…
— Они твердят мне, что одушевленный экспонат может обладать злой волей, — бушевал Франкенштейн.
— Доктор! – вскинулся скульптор. – А нельзя ли сделать его временно неодушевленным? Погрузить в летаргический сон?
— Можно, но я не стану, — отказался доктор. – Попросите мою нетрадиционную коллегу. Пусть навеет ему сон золотой, а у меня лицензия.
— Жареной картошкой его накормить – и будет спать, — вмешалась жена Титова. – Каждый вечер нажрется и дрыхнет на диване. Я нажарю, будет вылитый труп. В гробу повезете.
— Дура, — откликнулся Лев Анатольевич.
Он ощущал себя солнцем, вокруг которого вращаются планеты. Одна, две… шесть штук всего. И на каждой во время оно зародилась жизнь – не очень разумная, но остро нуждающаяся в его лучах. Скромность не позволяла ему считать себя звездой первой величины, он был довольно маленьким солнцем, белым карликом, но карлики всегда привлекали внимание мыслящих существ, и это был вселенский закон для всех созданий, наделенных искрой рассудка. Как же не заинтересоваться карликом? Он же урод. Интерес к карлику можно сделать отдельным критерием для проверки интеллекта. Решающим критерием. Правда, Лев Анатольевич не считал себя уродом, но это лишь дополнительно доказывало его умственное превосходство, положенное светилу в сравнении с прочими небесными телами.
…Черниллко мерил галерею шагами.
— Дипломатическая почта, — бормотал он. – Пломбированный вагон… А что? В таком вагоне уже возили аффект…
Лев Анатольевич любовно посматривал на восстановленный орнамент. После укола аффект исчез, однако натурщица выполнила реставрационные работы, и получилось еще лучше, чем было.
Чародейка раскинула карты.
— Всюду выходит казенный дом, — проговорила она грустным голосом. – Вот этот вот пиковый король все портит. Мы с ним хлебнем.
— Кто он такой? – сердито спросил Франкенштейн.
— Пиковый король, — пожала плечами ворожея, искренне удивляясь вопросу. – Кем же еще ему быть?
— Аналог, — Черниллко, сдерживая себя, нетерпеливо пощелкал пальцами. – Нас интересует его аналог из мира недоброжелателей.
— Как заявится – не спутаете, — пообещала та.
И не ошиблась: когда пиковый король заявился, его и в самом деле было трудно спутать с шестеркой и даже десяткой. Хотя на даму он немного смахивал.
16
Король явился инкогнито.
Он притворился туристом: приехала группа из ближнего зарубежья, и король спрятался в самой гуще.
Избалованные вниманием Франкенштейн и Черниллко уже не встречали посетителей, они обсуждали новые проблемы. Таможня ставила барьер за барьером: она лицемерно признала право гражданина на выезд и право экспоната быть вывезенным, однако положение осложнилось очередным нюансом. Культурное наследие могло быть арестовано сразу же по прибытии в аэропорт Орли. Его грозились взять в заложники хозяйствующие субъекты, которых развела на бабло российская преступная пирамида. Пирамида рассыпалась, превратившись в модель для сборки, и у нее в Париже не было особняка, который можно было бы захватить в компенсацию.
Лев Анатольевич ничего не имел против ареста, предполагая осесть на берегах Сены и красоваться там под пение местного аккордеона.
— Придурок, — негодовал Франкенштейн. – Кому ты там нужен? Ты еще Амстердам удиви…
Черниллко кивал:
— Аффект привлекателен в составе патриархальных традиций. Необходим контраст. У нас традиции есть, а там давно ни хрена нету.
…Титов восседал на табурете, являя собой центр художественной композиции. Жена и натурщица, зайдя справа и слева, обнимали его за шею и улыбались гостям. Позади высился доктор, воздевший шприц. Время от времени он выпускал из него параболическую струю; самая длинная совпадала с полуденным выстрелом из петропавловской пушки, и в этот миг в галерее бывало не протолкнуться. Все хотели посмотреть, как он это делает. У самых изысканных ценителей аналоговое мышление ассоциировало струю с процессом, повлекшим появление аффекта-орнамента; струя целебная уподоблялась струе губительной; разнонаправленные процессы становились единым целым, двумя аспектами явления, суть которого еще предстояло осмыслить. Это была очень сложная диалектика, замысловатый дуализм.
В ногах у Титова полулежала ворожея, перед нею были раскинуты карты. Она же торговала разнообразными сувенирами: штопор-Титов, дудка-Титов, гелевая авторучка-Титов, пресс-папье «Лев Анатольевич».
Туристы столпились перед композицией. Натурщица сощурилась и принялась декламировать: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» Ударил далекий выстрел, и доктор двинул поршень. Струя пошла, играя спектром в лучах доброжелательного солнца; пиковый король шагнул вперед.
В одной руке он держал баночку с соляной кислотой, а в другой – опасную бритву.
Вандал плеснул из баночки, но промахнулся и попал в доктора. Доктор разинул рот и страшно заблажил, продолжая давить на поршень, и парабола выгибалась. Изо рта у него хлынули солянокислые слюни. Бициллин тоже излился совсем. Герострат взмахнул бритвой и ампутировал первичный аффект вместе с носителем.
К нему бросились, ему заломили руки и поволокли к выходу. Черниллко бежал следом и норовил наподдать коротенькой ногой.
— Осемкин! – выл пиковый король, ошибиться в масти которого теперь было никак нельзя. – Меня зовут Семен Осемкин! Запомните, запомните это имя! Да здравствует!…
Лев Анатольевич вторил доктору, в ужасе глядя через губу на место, где только что было культурное достояние, оно же мужское, оно же Логос, пронзающий творчеством мировой хаос.
17
Его увезли на реставрацию.
Стебель привили обратно вместе с аффектом, который непосредственно после увечья нисколько не пострадал и мог, казалось, вести безоблачное автономное существование вне основного массива Льва Анатольевича. Однако Франкенштейн, явившийся с визитом через месяц, только вздохнул и горько сказал:
— Нет. Травма, швы – это чересчур. Это лишний штрих, уродующий полотно.
— Зато история трагическая, — пролепетал Титов.
— У меня не исторический музей. У меня живая действительность. Отправляйся в запасники, старина.
— Где, где они, эти запасники? – в отчаянии вскричал тот.
— В запасники, — повторил Франкенштейн, не слыша его и обращаясь к себе. – Они повсюду. Искусство лежит под ногами и ждет, чтобы его подобрали. Оно – сама жизнь. – Он очнулся, поправил Титову одеяло, участливо вручил ему апельсин, большое ударенное яблоко и воду одновременно, так что тот еле сумел удержать подношение. – Бывают люди, которые пишут мемуары про свою жизнь в искусстве, а я вот, когда засяду такое писать, расскажу про жизнь искусства во мне. Потому что жизнь – сама по себе шедевр.
Все это показалось Титову малоинтересным.
— Я хочу на выставку, — сказал он дрожащим голосом. – В центр Помпиду.
— Так ты уже едешь на выставку, — сочувственно отозвался Франкенштейн. – Все мы едем.
— Но как же я еду? У меня еще десять сеансов лечебной физкультуры! И массаж.
— Да так и едешь, сам убедись.
Франкенштейн протянул Титову свежий номер знакомой газеты.
Экспозицию теперь называли панорамой и название поменяли тоже: «Подноготная». В этом содержался намек на рецептуру приворотного зелья – настояла ворожея, и пришлось пойти ей навстречу. На снимке душой привычной компании был человек в черной полумаске.
— Но это же не я!
— Ну и что! Кому это важно!
— Как же не важно?… Кто это такой?
— Это Черниллко. Мы объяснили, что варвар попал в тебя кислотой и поэтому маска. Видишь – доктор тоже в маске. Только в докторской, марлевой.
— Это подделка! Дешевая мазня!
— Не подделка, а талантливая копия…
— У него вообще нет никакого аффекта!
— Как это нет? – горячился Франкенштейн. – У него уже есть аффект!
— Да откуда же?
— Да оттуда же!
— Ногти?…
— Нет! Просто ноги помыл и плюнул в воду! Девушка выпила…
— Я буду судиться!
— И что ты предъявишь? У тебя и аффекта больше нет.
…Лев Анатольевич в смятении посмотрел на место, где еще недавно расцветал первичный аффект – ныне всосавшийся полностью и гулявший с экскурсией по сосудам, подбираясь к мозгам. Аффект, полный хищного любопытства, знакомился с внутренней подноготной панорамой. Предметом беглого осмотра была сама жизнь, где все попеременно выступают то экспонатами, то экскурсантами.