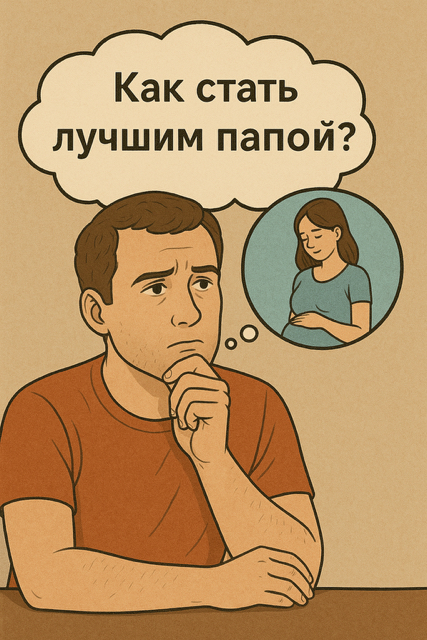БЛИЖЕ К ДЕЛУ
С некоторых пор Валерка стал называть наше добровольное общество брехунов вместо края — шайкой (что-то такое и Владька накаркивал из своего шлема пса-рыцаря). Шайкой у нас именовалась компания разновозрастных мальчишек от десяти до тридцати лет, готовая защищать своих членов соответственно их весу в шайке. Хотя каждый край имел в себе несколько шаек, все же шайка была выше края, то есть сплоченнее и иерархичнее. Это была уже именно боевая единица. Наш край и в самом деле по своему количественному составу приближался скорее к шайке, но не соответствовал ей по качеству: старше четырнадцати лет у нас был один Генка — вместо семи-десяти, положенных по штату. И потом, мы совсем не имели корней в массах, тогда как другие шайки в случае нужды могли мобилизовать даже стариков, то есть отслуживших в армии.
Я полагал, что Валерке шайка нужна лишь затем, чтобы числиться ее атаманом, — и на здоровье, владей хоть тремя шайками сразу, как тот тип из зощенковской «Бани», который в одной стоит, в другой башку мылит, а третью рукой придерживает, чтобы не унесли. Да и я, в принципе, был не прочь от шайки.
Но оказалось, что изготовленный запас вранья требует своего воплощения не меньше, чем запас оружия — его использования, — это своего рода беременность.
И вот однажды Валерка, празднично взволнованный, влетел на наш бивуак с криком: «Полундра!» Вмиг все были на ногах — и тот, кто кивер чистил весь избитый, и тот, кто штык точил, ворча сердито. Валерка ястребиным оком окинул наши ряды, небрежным движением плеча поправил сползавшую бурку.
— Братва! Тут надо сделать одного стебка…
И, прочтя в наших глазах полную боевую готовность, пропел:
— За мно-ой!
Тыкдык, тыкдык, тыкдык, тыкдык.
После стольких пудов вранья медлить было невозможно. Но, я подозреваю, мы так дружно подхватились еще и оттого, что каждый в душе понимал: на действительно опасного врага Валерка не поведет.
Мы за отцом-командиром ворвались в школьный двор — летом мы почему-то часто там крутились —и на рысях вошли в соприкосновение с противником. Стебком оказался безобидный, немного тягуче-скрипучий пацан по кличке Поп (иногда с прибавкой «толоконный лоб»), кличке, произведенной наипростейшим образом из его фамилии, а возможно, и из отдаленного социального корня. Кстати, и в этот раз он провинился, кажется, тем, что назвал Валеркину бурку рясой и попросил примерить, — или чем-то еще более неуловимым задел Валеркину честь, которую Валерка стремился сделать нашей общей честью. Поп не принадлежал ни к какой шайке, что особенно взывало к Валеркиной щекотливости.
Само теперешнее занятие Попа исключало всякую злонамеренность: в яме для прыжков он играл в машинки с пятилетним сыном школьной сторожихи. Увидев нас, он переменился в лице и начал тщательно выбивать песок из кузова своего грузовичка, будто пепел из трубки. Валерка возвышался над ним в позе «ну-с? Я жду». Что-то даже бюрократическое было в этом ожидании, что-то барабанящее пальцами по настольному стеклу. Поп выколачивал свою трубку очень долго и под конец даже раза три изо всех сил продул ее. Потом еще раз внимательно осмотрел и, не найдя уже никаких непорядков, неохотно выпрямился.
— Ну, ты говорил: зови свою шайку, — торжествуя, начал Валерка. — Видал? Вот моя шайка. — И он обвел нас широким жестом.
Мы приосанились. Поп еще больше побледнел.
— Ну, видел? — повторил Валерка, тоже слегка бледнея от высокой минуты, и воровато, как кошка, мазнул Попа по щеке.
Попу бледнеть было уже некуда, он только перебегал глазами с нас на Валерку, пытаясь понять, что будет дальше. Дальше Валерка снова ударил, уже не так воровато.
Валерка, как всегда, бил в одно место, с каждым ударом все больше раскрепощаясь. Каждый раз он словно бы приостанавливался, но, видя, что ничего, собственно, не мешает ему ударить еще раз, бил еще раз. Но каждый удар Валерка наносил как-то так, будто он первый, даже спрашивал каждый раз: «Ну, видал?» — наверно, ему хотелось многократно и разнообразно пережить мгновение первого «люблю». Сын сторожихи впился в происходящее с рвением начинающего репортера. Видно было, что эта сцена для формирования его юной души останется хотя и небесследной, но и далеко не основополагающей.
На вопрос, видит ли он нас, Поп не отвечал, как на явно риторический, только все перебегал глазами с нас на командира и словно дичал на глазах. Валерка набил ему на щеке красное пятно, в котором я невольно искал очертания Валеркиной пятерни. Вдруг одичавший Поп шарахнулся вбок и нелепо побежал, вихляясь, будто выбирая сухие места между лужами. Видно, «бегать» и «убегать» — не совсем одно и то же, — этому надо учиться заново.
Валерка заулюлюкал ему вслед, мы дружно подхватили. Я, впрочем, только сделал вид, что подхватил, может, и еще кто-то, но это все равно было неотличимо от «дружно подхватили». Кажется, всем было неловко, кроме двух-трех, всегда продолжавших что-то пережевывать. Поэтому Валерку защищали особенно рьяно.
— А Поп тоже! Знает же, что Валерка горячий!
— Конечно! Что ему — смотреть?!
И даже обобщающее:
— Ничего, теперь запомнят!
Оказалось, что Поп сам-то и замахнулся на Валерку, и оскорбил его всячески, и столько всего набезобразничал, все больше приобретая знакомые черты Его, что потом уже и невозможно было выяснить, сравнивал Поп Валеркину бурку с рясой или не сравнивал — заблуждение, кстати, для Попа вполне простительное. Я ведь уже говорил, что нам до ума часто не хватает только памяти.
Все были неестественно оживлены.
Я тоже старался.
Но меня тошнило.
ВЫБОР ДРАКОНА
При первом же удобном случае я приотстал и свернул за угол. Уклониться от участия в триумфе — это была оппозиция, но в ту минуту я даже не догадался поставить это себе в заслугу. Перед глазами у меня стояло дичающее лицо Попа с набитым пятном на щеке. Но пятно то и дело заслонялось развевающейся Валеркиной буркой и едва светило мне оттуда сквозь нарастающий восторг, словно маяк в тумане, — четко мы все-таки сработали, дружно, несокрушимо.
Но Валеркина бурка была не единственным бельмом и даже, наверно, не самым толстым из тех, которые мешали мне увидеть истину во всей ее срамоте со всей доступной мне в то время отчетливостью. Увидеть и сказать подлецу, что он подлец или, по крайней мере, что издеваться над ни в чем не повинными людьми — абсолютно недостойный выход для распиравшего его желания совершить подвиг, — пакость не становится подвигом, но по-прежнему остается пакостью, если даже она требует ловкости, храбрости, — а в поповском случае даже и этого не было.
А в жизни ведь, пожалуй, и без того всегда есть место подвигам — например, высказать все это Валерке — это пострашнее любого копра, — пакости людей мучительнее, чем пакости судьбы — судьба не унижает. И там смельчака, съехавшего с копра, ждет почти гарантированный общественный восторг. Ну а здесь какой может быть восторг… Рядовые армеуты не поймут — слюнтяйство, донкихотство, мне ведь лишь бы повыставляться. Валерка воскликнет, подобно Тарасу Бульбе: «Так, стало быть, следует, чтобы пропала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни христианству не было от него никакой пользы?»
Да нет, зря я вспомнил старого Тараса — он, приглядевшись к Валеркиным подвигам, скорее всего, ахнул бы: «Как?.. Своих?.. Своих, чертов сын, своих бьешь?..» А Валерка, наверно, еще раз порадовал бы мое репетиторское сердце: «Помягче с Попом? Мы хотим мира, но не ценой чести. У вас нет души солдата, вы не привыкли презирать свою и чужую жизнь, когда это нужно».
Словом, выйдет очередная комедия, а комедиями я уже был сыт по горло. Я не желал вставлять в комедию одичавшее поповское лицо с пламенеющей щекой. Но ведь Валерка может принять меня и всерьез — он слишком многое поставил на Попа. Тогда он ничего не ответит, просто утопит еретика в организованном коллективном презрении.
Дойди у нас до кулаков, я отдул бы его играючи. Но до них не дойдет. Я уже знал его методы и знал также, а еще больше предчувствовал его громадную энергию вражды. Он пустит в ход абсолютно недоступные мне средства: оговоры, науськивания, выкрики в спину, нескончаемые, изо дня в день и из часа в час шпильки, за каждую из которых в отдельности будет глупо поднимать скандал, — я не чувствовал в себе готовности легко пойти на все это. Вдобавок, мы сами сделали Валерке приличный авторитет и за пределами нашей жалкой шайки, наивно радуясь, что рекламируем таким образом и себя.
И все же если плюнуть и вовсе удалиться в отставку? А как же край? И кто там будет без меня отстаивать идеи гуманизма и демократии? Однако я уже чувствовал, что дело пошло всерьез и я уже не стану выламывать их в комедиях, как раньше. Еще и деликатность чертова — как сказать вне игры человеку, что он гад!
А оказаться предателем — это как? Ведь понятия о предательстве были у меня самые рыцарские: если ты прошелся с кем-то рядом, то свернуть уже не имеешь права. На днях я читал сынишке вслух, как несчастная тень Наполеона плавает по синим волнам океана на воздушном корабле: когда я прочел строфу, где «маршалы зова не слышат», он аж подскочил: «Прреддатели!»
— Конечно, маршалы его не были людьми выдающихся моральных качеств, служили больше из личной выгоды; впрочем, Наполеон и не питал иллюзий на этот счет, а предательство, насколько я понимаю, это злоупотребление доверием. Но ты мне вот что скажи: бандит с пистолетом — это я к примеру — бандит заставляет тебя помогать ему. Ты помогаешь, чтобы спасти жизнь, — тоже, значит, служишь из личной выгоды. А потом налетает милиция, и ты ей помогаешь бандита задержать. Ты за это предатель?
— Конечно! — он даже глаза вылупил — что, мол, за вопрос. Это тебе маленький образчик большого образа мыслей (и моего тогдашнего).
Кстати, в детстве я от этого стихотворения укладывался спать в полном потрясении чувств, комкал свое тертое, доставшееся мне после тебя байковое одеялко и клал комок на грудь, давясь слезами и шепча: «Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог». Вот она, страшная сила художественного образа, заставляющая нас рыдать над тем, на кого автор пожелает направить свой прожектор театрального осветителя, — строка, например, «и спят усачи-гренадеры» только усиливала наполеоновский трагизм, но я бы тоже лишь вылупил глаза, если бы меня спросили, не вижу ли я и в усачах-гренадерах объекта для оплакивания.
Признаюсь по секрету, это стихотворение и по сей день изрядно меня разволновывает. Колдовство! Другой, не наш мир, другой Наполеон, другая Эльба, другие гренадеры, — колдовство! Не зря кондовые христиане опасались в красоте чего-то бесовского. И мне она теперь подозрительна.
Ну а насчет Валерки — мне, конечно, тоже хотелось его выгородить, а все свалить на Попа, как всякому человеку, который поостерегся вмешаться в несправедливость и теперь хочет объявить ее справедливостью, чтобы не считать себя трусом. И вообще, мне хотелось согласиться с происходящим, примириться с действительностью — что хорошего жить с воспаленной непримирившейся душой! Желание во что бы то ни стало примириться с реальностью доходит иногда до того, что всякое огорчение объявляется глупостью: все действительное разумно и у природы нет плохой погоды.
Ладно.
Двинемся дальше. То есть вернемся несколько назад.
В тот день я долго шатался по нашим глинобитным и каменнотолченым улицам, вглядываясь под ноги, чтобы не видеть своей путеводной звезды, набитой Валеркой на поповской щеке. Душа моя напоминала медленно кипящий суп: вот всплывает что-то со дна — ты и разглядеть не успел — что, а его уже и нет, новое что-то уже запоказывалось, но ты и его не удерживаешь, чтобы вглядеться, — так всегда бывает, когда окончательное решение все равно известно заранее, а кипения ты просто не в силах остановить. А я знал, что завтра все равно отправлюсь на службу, чтобы я сегодня ни напридумывал.
Однако попробую кое-что из этого давнишнего супа придержать шумовкой на поверхности, попробую пересказать кое-что, как я это теперь понимаю.
Хорошо бы, думалось мне, чтобы край был, а шайки не было, раз такое дело. Да, без шайки не будет и той специфической славы, которую мы дерзали мысленно ласкать в своих ежедневных похвальбах, — ну и бог с ней. Я, кажется, тогда и открыл свой любимый прием, которым до тех пор пользовался лишь в гастрономических целях: чтобы узнать вкус чего-то большого, надо отломить кусочек и попробовать. Химической пробы — битого Попа с меня было достаточно. Я понял: этой славы — мне не надо. Да и раньше я желал ее как-то абстрактно: шепот за спиной, ощущение своей победы, силы, храбрости — а какому делу она послужила — как-то не задумывался. Нет, мне не все равно было, за чей счет я добыл славу — просто я не доводил до отчетливости эту ее сторону. Ну и хотелось, конечно, быть членом какого-то братства, частицей силы, успехи которой были бы и моими успехами.
Черт бы ее побрал, эту шайку! Правда, кто тогда будет защищать тебя от других шаек, — Поп вот попробовал остаться над схваткой… А быть в шайке надежно, выгодно, удобно. Получалось почти по Шварцу: лучший способ защититься от чужого дракона — завести собственного. Да только собственный так за тебя принимается, что поневоле заподумываешь: а что худшего может тебе сделать чужой? Я почувствовал, до чего мне уже опротивело мое чудачество.
Но вот у Гришки Москвича в шайке все, кажется, по-хорошему, все путем. Но и у нас ведь сначала было по-другому. Может, чужой дракон только и либеральничает, чтобы переманить тебя от твоего? А заделайся он драконом-монополистом — и сразу оборзеет на сто голов и тысячу когтей. А жизнь без драконов — бывает ли такая? Ведь на бездраконье и ящерица дракон. Но все-таки хоть не сожрет.
И бывает ли край без шайки? Я перебрал все края и увидел, что каждый из них, как на скелете, держится на союзе нескольких шаек. Расточатся шайки — через полгода растворятся и края. Это было довольно неожиданно.
Но я не провозгласил: тогда и края не надо! Такого — узенького, вшивенького — да. Такого не надо. Зато я еще отчетливее почувствовал, до чего мне нужен настоящий край, до чего мне хочется послужить чему-то большему, чем просто я сам. Такому большому, чтобы я уже без оглядки мог обнять все эти дивные вещи: силу, мужество, храбрость — за то, что они так здорово умеют служить нашему общему с ними делу. Вот восстали бы негры в Америке и поехать им помогать, как в Испанию! Там бы я пожил Большой жизнью!
В то время я не умел взглянуть на жизнь вокруг себя как на Большую; да и сама она не очень-то, казалось, чувствовала себя чем-то единым. В книгах, в кино она проглядывала, а вокруг все вроде бы занимались каждый своим делом, — и больше ничего! Мне недоставало человека, который ощущал бы жизнь как целое, полномочного представителя Большой жизни. Но только настоящего представителя. Дети ведь — да и взрослые часто — выбирают не идею, не профессию, а человека. И в самом деле, как я могу любить профессию, которой не знаю, — но вот человек ее любит, а я люблю его, восхищаюсь им — дело и сделалось.
Я считаю одной из важнейших обязанностей нас, учителей, — быть для ребят полпредами Большого мира, непрестанно напоминать им, указывать на подлинные маяки, чтобы мечту каждого хорошего мальчишки занять место в настоящем строю не припряг к своей колымаге какой-нибудь подонок — они ведь умеют иногда гримировать свою упряжку под строй, представлять дело так, будто и настоящие герои стоят с тобой в одном ряду — ну, может, одной оглоблей правее, — чуть ли не их место ты и унаследуешь.
Ведь я, пожалуй, и поддался тому злому Духу — Науке и Искусству — именно оттого, что их легче всего ощутить как целое. И на вкус они приятнее. Но и сейчас я не знаю ничего лучше, чем быть «одним из». Я не знаю ничего радостнее той силы, гордости, смелости, которые я нахожу в себе в те минуты, когда ощущаю себя солдатом великой армии — занимающим место в строю подлинного Духа — общих целей человечества.
Оказаться вне строя — не в том даже дело, что жизнь становится какой-то скотской, — это, в конце концов, дело вкуса, — нет, она становится жутко унылой и одинокой. Сразу поднимается вся тоска о бессмысленно уходящих днях, — не знаю, как кому, но меня ужасает жизнь без цели, так называемого смысла жизни, то есть чего-то такого, чего ты хочешь больше всего на свете и чего достанет хотеть на целую жизнь, а потом и еще лет на тысячу.
Конечно, и со смыслом жизнь не пряник, не каждый день, к сожалению, сбываются твои мечты, но желать и надеяться — братья-близнецы. Если очень хочешь добра, то ухитришься и верить в него.
Когда-то я поклонялся силе, мужеству как самоцели, потом уму, душевной изощренности — и все копошилось где-то: а для чего они? — теперь поклоняюсь всем им как средствам. И лично уже для себя я понял, для чего я всю жизнь хотел богатеть мужеством, умом, совестью — увы, не всегда так удачно, как хотелось бы, — чтобы служить полпредом, настоящим полпредом, с неопровержимыми верительными грамотами — умом, мужеством, совестью.
Ну ладно, прости за высокопарность, я знаю, ты не любишь риторики. Доскажу лучше, как я дослуживал в Валеркиной упряжке (ведь и правда умудрялся, подлец, пристегивать к ней и настоящие дела; просто диву даюсь — дурак ведь дураком!).
Назавтра в шайке оказалось еще паскуднее: вчера хоть не решались затрагивать поповское состояние, а сегодня уже вовсю потешались, какая у него была рожа. Я перешел из штаба в строй.
Я выполнял новые обязанности с мрачным усердием, искупая вину перед Попом. Я сделался простым и железным, предвосхищая, кажется, неизвестный мне тогда образ булгаковского Най-Турса: да, штабная верхушка подла и продажна, но я исполню свой солдатский долг до конца. Я первым бросался в любые атаки и последним уходил на отдых. Слава богу, что в те дни не подвернулось настоящего противника, а то, боюсь, ему пришлось бы своей кровью смывать мою вину.
Валерка несколько растерянно пробовал зазывать меня обратно, он хотел, чтобы к нему воротились перелетные музы идейных дискуссий, поэтизировавшие убожество нашей казармы, но я уже не желал выдавать их на поругание. Ведь все, что я защищал, выставлялось даже не дерзостью — глупостью. Я оставался на передовой.
Но скоро я остыл и к «простой солдатской жизни» — я уже знал, подготовкой к чему она служит. И хвастаться перестал абсолютно — это тоже было зачатием пакости. Ну а не хвастаться — это было странно даже во времена Красного Солнца Владимира. («Ой ты гой еси, Данилушка Денисьевич! Еще что ты у меня ничем не хвалишься?») Ну а у Валерки это и вовсе было главной приманкой — и вдруг я перестал ее заглатывать. А дурные ведь примеры… — сам знаешь.
Валерка пытался расшевелить меня, начал вдруг преувеличенно расписывать мою рисковость, особенно восторгаясь спуском с копра им. 1-го Мая, но я хранил угрюмое молчание.
А между тем историческое возмездие приближалось.
КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ
Между тем соседние державы, вероятно, с беспокойством следили за усилением нового соперника и, вероятно, ждали случая вступиться за порядок и законность, то есть за их преимущественное право карать и миловать, кого они захотят. И Поп, вероятно, подвернулся кстати. И, вероятно, очень удивился неожиданному вниманию к своей особе.
Так или иначе, вскоре наш дозор обнаружил «группу неизвестных, состоящих из Алфёра и Попа», движущуюся в наше расположение кильватерной колонной. Впереди вразвалочку, но решительно вышагивал Алфёр. Все на нем было по высшему сорту, но без вызывающей роскоши парвеню: суконные брюки-клеш — 32 см, и ни миллиметром шире, кепочка-восьмиклинка с тряпочной пуговкой на маковке и козырьком в два пальца, а не в полтора, что переходило уже в снобизм. И руки стояли ни градусом круче положенного. Только лицо вместо обычной вельможной лени выражало решительность. И раз уж шел один — значит, не просто плевал на нас в уверенности, что мы утремся, а, значит, имел за спиной кого следует.
Однако Валерка и здесь оказался на высоте, хоть и заметно струсил.
— Обходной маневр! — вскричал он, и мы с облегчением драпанули за ним: это была уже не трусость, а военная хитрость.
Валерка и в этот раз с блеском продемонстрировал свое искусство перекрашивать низкое в высокое, но на войне этого было мало, — маневр отличался исключительной бездарностью с тактической точки зрения.
Я сразу понял, что он заведет нас в тупик за трестовской кочегаркой и Алфёр, если он не круглый идиот, будет там через полминуты: там есть расчудесный пролом в заборе, прямо для него. Но не поднимать же препирательства в боевых условиях, да я в последнее время уже и не встревал ни во что для большей непричастности к Валеркиным злодействам.
Алфёр появился даже раньше, чем я ждал. Валерка вывел нас так ловко, что отступать было уже некуда. Алфёр, не сводя глаз с Валерки, направился к нему. Валерке следовало бы на брюхе ползти ему навстречу, объявив нам, что отрабатывает передвижение по-пластунски, — но обычная находчивость оставила его.
Алфёр крепко ударил его кулаком в лицо. Крепко, но не изо всей силы, чтобы это было проучиванием, а не дракой. Валерка согнулся, приставив к лицу с боков ладони козырьком, как делают, когда хотят разглядеть что-то под водой. На сизый шлак упала большая капля крови, потом еще одна. Алфёр заботливо склонился к нему и тщательно, как муху придавил, ударил снизу твердой растопыренной пятерней.
Затем повернулся к Попу:
— Еще кто тебя бил?
— Никто больше, — ответил Поп. Он нисколько не торжествовал. Казалось, он лишь совсем недавно снова начал приручаться.
Алфёр обратился к присмиревшей шайке:
— Поняли? Еще раз увижу, что возле нас третесь, — ноги повыдергиваю и спички вставлю.
Мы молчали. Валерка на своем носу мог зарубить ту истину, в которой, по мнению Стендаля, в конце концов убедился Наполеон: опорой может служить лишь то, что способно сопротивляться. Может быть, сейчас Валерка и пожалел, что подбирал себе таких орлов, которые умели только с замечательной удалью щелкать каблуками: «Будьт сделно!» — да виртуозно изливать хвалы на нашу шайку и хулы на прочие.
Алфёр обвел нас глазами, отыскивая признаки неудовольствия, и не обнаружил их. Зато он обнаружил меня и огорчился:
— Юрик? Ты чего тут с этими недоделками?
Он спросил так ласково, что сохранить угрюмость было бы предательством — ведь он доверял мне, — но не сохранить — тоже. Поэтому я кисло поежился между двумя предательствами.
Алфёр повернулся к Валерке и поковырял плечевой шов его кителя, который Валерка упросил мать ему сшить.
— Генеральский! — похвалил Алфёр и словно бы посоветовался сам с собой: — Распороть, что ли? — Но сам же и возразил: — Завтра отец за получкой прибежит. — По тому, с каким удовольствием он произнес слово «получка», стало ясно, что долгожданный срок уже настал и автобаза приобрела нового сотрудника.
Валерка, прижав одну ноздрю, бережно сдувал с другой мелкие кровяные брызги. Мне вдруг стало ужасно его жалко, — напряжение уже ослабло, вот и появилась такая возможность. Сам-то по себе расквашенный нос — чепуха, но, если люди, нарочно, хладнокровно его расшибли, да еще при всех, — кажется, лучше сломанная нога, только бы не люди это сделали.
Я тронул Алфёра за локоть и, морщась, попросил:
— Не надо больше, Толя. Дал два раза — и хватит.
В этот момент Алфёр брезгливо рассматривал растопыренные пальцы, и я почувствовал, как ему не хватает белых перчаток, чтобы стянуть их двумя пальцами и выбросить в канаву; однако ему пришлось ограничиться тем, чтобы просто обтереть руку об Валеркин китель. Он, оказывается, тоже был не так прост, что-то где-то почитывал. Кстати, среди шпаны попадаются такие ломаки, каких не встретишь — ты, конечно, не поверишь, но клянусь, это так! — даже среди гуманитарных дам.
Когда я потрогал Алфёра за локоть, он вдруг как-то радостно рассвирепел, словно только этого и ждал.
— Тебе его жалко? А его не жалко? — он указал на Попа тем же широким жестом, каким Валерка указывал Попу на нас. Да, Алфёр был далеко не прост. А чего мне было сейчас-то Попа жалеть!
Я совсем расстроился: еще и Алфёра потерял. Но он сразу же смягчился и сказал по-прежнему с удовольствием и громче, чем требовалось, но уже наставительно:
— Ты думай сначала, когда говоришь.
И вдруг зашагал прочь, как бы внезапно забыв про нас. Поп поволокся сзади, как-то искоса к нам. Видно было, что ему еще приручаться и приручаться.
За ним потянулись и мы, стараясь не замечать друг друга. Валерка брел, нервно всхлипывая без слез сдвоенными, налезающими друг на друга всхлипами и спотыкаясь — голова его была запрокинута, чтобы унять кровь. Но, может, он тоже просто не хотел видеть нас.
По-моему, каждый из нас в глубине души и не чувствовал себя обязанным оправдывать на деле свои похвальбы, каждый подряжался только врать. И вранье же это, по-моему, сделало нас в глазах друг друга такими ни на что не годными брехунами, с которыми надо дураком быть, чтобы пойти на серьезное дело.
Что и подтвердилось.
Я почему-то оглянулся на капли Валеркиной крови, но их было не разглядеть уже в десяти шагах. И меня вдруг поразило, какие они маленькие — даже большие капли крови. Накапай их хоть миллион, и все равно останется почти целая Земля чистого места, с которого их не видно уже в десяти шагах.
Больше мы не собирались. Совранная нами великая империя при первом же столкновении с реальностью рухнула, как карточный домик, хоть я и не знаю, что это за домик за такой, откуда он берется и зачем. Но это и неважно. Главное — она рухнула.
ЭПИЛОГ
Принято снисходительно смеяться над былыми кумирами детских горизонтов. Но обратись себе в душу — может быть, эти идолища поганые успели отложить яйца, которые только и дожидаются теплой погоды? В серьезных делах ты, конечно, следишь за собой, а вот испытай себя на разных глупостях, которые были бы забавными, если не знать, в каких молодцов вымахивают эти милые карапузы. Не испытываешь ли ты легкого удовольствия, рассуждая об отчаянных выходках какой-нибудь отчаянной сволочи? Не шевелится ли в твоей душе крошечка ликования, когда натыкаешься на фразу типа «Это был грозный (страшный) Икс»? Не любуешься ли ты — самую малость, разумеется, — молодцеватостью отрицательных киногероев, когда они, исключительно ловко поигрывая оружием, окружают дом настоящего героя, то есть положительного? В нашем клубе после таких аттракционов половина сидений оказывается изрезанными от скрытых вожделений.
Если ты, усмехнувшись, признаешься в подобных милых слабостях умного человека, значит, тени твоего прошлого поработали недаром и покой, в который они погрузились, можно смело назвать заслуженным отдыхом.
Так храм оставленный — все храм, кумир поверженный — все бог.
Где-то сейчас Валерка? Где-то прозябает…
Но, может быть, правильнее сказать — тлеет? Да и прозябать — это значит прорастать, хоть и в устаревшем значении.
Будем бдительны!