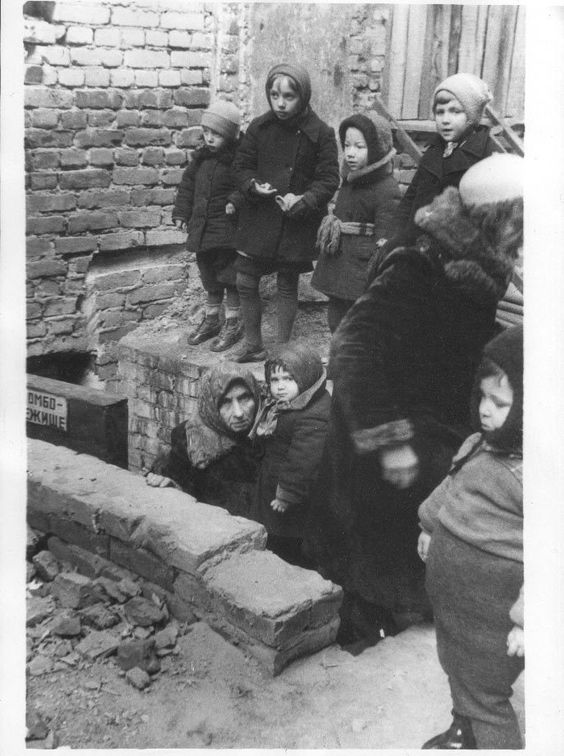ГЛАВА 6.
Homo proponit, sed deus disponit (Человек предполагает, а Бог располагает)
(воскресенье,10 апреля 1904 года)
Так получалось, что в зале ресторации не только Савва заинтересовался этим шумно, по-купечески, гуляющим мелитопольским гостем. Приглядывали за ним со стороны. Кто – это Савва доподлинно и сам ещё до конца не понял, – но, по всему выходило, с самого начала приглядывали. Выпасали, неуёмного гулёну, словно жирного гуся перед Пасхой. Чтобы, значит, потом стал, бедолага, запеченный, с яблоками да с рубленным луком, главным украшением праздничного стола.
Впрочем, полагалось бы обо всём по порядку.
Завершив в долгих и волнительных размышлениях за папиросой бурные, как в синематографе, душевные переживания после просмотра фильмы в иллюзионе, прогулявшись не спеша, для вящего успокоения, по тенистым аллеям Городского сада, насладившись всласть созерцанием юных городских дев, бродивших, держась за руки, с маменьками и папеньками в подобающих моменту выходных платьях под легкими зонтами, что скрывали их нежные лица от прямых солнечных лучей и от нежелательного загара, полюбовавшись вдосталь на проклюнувшиеся в клумбах нежные нарциссы и яркие тюльпаны, алые и желтые, как капельки крови или же солнце в зените пополудни, выпив в ближайшей буфетной будке два стакана зельтерской воды, Савва с удивлением отметил, что время, не в пример ему, торопится. И всего-то нечего остается до наступления вечерней поры. А стало быть, близится час к его предстоящему праздничному, но уединенному застолью и ко всем возможным последующим удовольствиям.
Для того, чтобы к поздней ночи не впасть в нежелательную сонливость, быть охочим до игривых, по определению, девиц и не осрамиться в заведении, куда-таки намеревался отправиться после ресторации, по неопытности или же по причине излишнего чревоугодия накануне, Савва загодя тщательно продумал своё ресторанное меню. И даже детально обсудил его с шефом и метрдотелем, заказывая столик. Еда должна была быть изысканной, но лёгкой, не чрезмерной.
Савва выбрал тройного навара уху. Её в последнее время, благодаря Елене Ивановне Молоховец и ее широко разошедшейся поваренной книге для правильного домоводства, стали величать «Царской», однако известно, что казаки издавна готовили такую, для укрепления телесных сил и пущей бодрости духа.
Но, перво-наперво – закуски. Для начала – полдюжины устриц. Подадут, конечно, не средиземноморские, кои из-за повышенной солености тамошней воды значительно уступают во вкусовых качествах, а отечественные, крымские, те, что добываются на естественных банках либо в самой Севастопольской бухте, либо на участках побережья к югу от мыса Херсонес и далее, до бухты Ласпи, или же к северу от мыса Тарханкут.
Устрицы, щедро сбрызнутые лимонным соком, выложат на небольшой серебряный поднос открытыми, перемежая дольками свежего лимона, а сверху каждую для пикантности и изысканности вкуса увенчают ложкой черной икры. Сопровождать такое лакомство, утверждал шеф, по заведенной французами моде должно исключительно отличного качества вино – игристое сухое или же брют. Сажем, прославленное «Клико» или «Империал» от «Моэт и Шандон». Впрочем, Савве был обещана достойная альтернатива: не менее славный бокал настоящего «Коронационного» 1896 года или даже ещё более известный «Новый Свет» тиража 1899 года прямо из имения князя Льва Голицына.
Общеизвестно, что именно это шампанское, представленное от известнейшего винодела империи четыре года назад на весенней Международной выставке вин в Париже, впервые получило единогласное признание экспертов и было удостоено высшей награды конкурса — Кубка Гран-при.
Шеф, смеясь, рассказал Савве о курьезном случае, якобы имевшем место быть на этой выставке.
Дескать, к традиционному обеду, устроенному по обыкновению после конкурса в честь председателя комитета экспертов, графа Шандона, совладельца известнейшего винодельческого дома Шампани и крупнейшего производителя шампанских вин, подавали исключительно напитки, получившие на выставке высшие награды и золотые медали.
Как и принято, в таких случаях, не только, кстати, в Париже, уже во время трапезы, начались тосты в честь виновника торжества. Неуемно, один за другим, поднимающиеся из-за стола для произнесения спича ораторы, изрядно подогретые поистине императорской роскошью приёма, изобилием закусок и отменным вкусом подаваемых вин, восхваляли графа, как уникального промышленника, сумевшего соединить крупнейшее винодельческое производство с настоящим искусством, человека столь же передового, сколь и творческого.
К концу обеда, как и положено для настоящего вина-победителя, подали в охлажденных, текущих слезой бокалах, получивший Гран-при голицынский «Новый Свет».
Именно в этот момент, поднимая с подноса предложенный ему бокал, и произнес кто-то из гостей, желая вновь оказать господину Шандону приятность, очередную здравицу в его честь. Он пространно и велеречиво восславил графа и гражданина, создателя воистину божественного напитка, который заслуженно и по праву составляет настоящую гордость и славу Третьей Французской республики.
В ответ, расчувствовавшись, и долго, словно на показ, утирая сухие кончики глаз белоснежным батистовым платком с вензелем, граф, никоим образом не нарушая этикет, но совершенно в демократическом и даже несколько либеральном духе, также поднял бокал со слегка пузырящимся напитком, рассмотрел его, любуясь, на свет, пригубил, изобразил на лице несказанное удовольствие и произнес:
«Да, это действительно божественно! Напиток, который нам только что подали и который, господа, все вы сейчас пьёте – это лучшее моё шампанское! Однако, – уже серьезно и даже слегка потупив от скромности взор, заявил председатель комитета экспертов, – своим высоким качеством оно обязано не столько мне, сколько моим рабочим, виноделам, которые более столетия, из поколения в поколение трудятся в моей фирме. Вновь поднимаю этот бокал. За истинных создателей чуда, за моих виноделов, сделавших это фантастическое и непревзойденное шампанское!»
Сразу после Шандона, с таким же бокалом в руке, поднялся Голицын. Он вежливо поклонился предыдущему выступающему. Однако при этом лукаво улыбался, а глаза искрились иронией, столь свойственной его сиятельству.
«Я очень благодарен, граф, за все те добрые слова, которые вы сейчас произнесли, – сказал он. – Право слово, мне тоже впору прослезиться и вспомнить моих виноделов. И даже признать, что лучшего торгового представителя для продажи моего шампанского во Франции мне не сыскать вовек. Вы, граф, сделали ему наилучшую рекламу, хотя только лишь ещё раз подтвердили высокую оценку, которую, как эксперт во главе авторитетного жюри, дали на выставке. Ведь вино, которое Вы сейчас пьете и столь красноречиво хвалите – это моё шампанское», — сказал он.
Действительно, к смущению, величайшей растерянности и огромному конфузу графа Шандона и всех присутствующих, оказалось, что в бокалах было именно голицынское шампанское тиража 1899 года, получившее на выставке высшую премию Гран-при!
Кроме устриц в качестве закуски Савве подадут две порции отборной белужьей икры. Так называемой «троичной». Из той, что тщательно упакованной в бочонки по пуду отправляют в столичные рестораны. Подадут в изящной фарфоровой икорнице с перламутровой ложечкой.
Глупости, что икорница должна быть непременно обложена льдом, это вынужденно возведенная в абсолют европейская практика маскировать рыбный запах и несвежесть доставленного издалека продукта.
В Александровске же, как и по всей империи, а паче того в «Гранд-Отеле» да ещё во время весеннего нереста, когда вода у порогов кипит от обилия осетровых, уверил Савву шеф, черная икра всегда свежая, да и выкладывается из бочонка лишь за несколько минут до подачи на стол. А потому лед добавлять просто смешно. Более того, напротив, икра должна немного согреться при комнатной температуре – только тогда она откроет свой истинный вкус.
Икру возможно будет есть просто ложечкой, а возможно сочетать с продуктами, подчеркивающими всю ее прелесть. А уж коль скоро Савва отказывается от традиционных блинов и сметаны, то ему подадут лишь половинки сваренных вкрутую перепелиных яиц, нарезанный дольками свежий огурец и легкие слоённые волованы с нежным кремом из мягкого сыра и жирных сливок на блюде, украшенном оливками и зеленью.
Важнейший вопрос, резюмировал шеф-повар, чем в конце концов, считать икру. Традиционно – это именно закуска под самый что ни на есть традиционный местный напиток, как ты его не назови, хоть водкой, хоть горилкой, хоть шнапсом. Истинные ценители просто закусывают водку икрой, зачерпывая ее икорной ложечкой. А вот известнейший оперный бас, кумир публики Федор Иванович Шаляпин, в прошлом году, пребываючи с гастролью в губернском Екатеринославе, не только выступал с концертом в Новом театре и был замечен в амурных похождениях с местными восторженными поклонницами, но и говаривал не единожды, гуляя в местных ресторациях: «Икрой не закусывают, ее водкой запивают».
А ведь и правда: если сперва съесть ложечку икры, а уж потом выпить стопку водки, то слегка солоноватый жирный вкус зернистых икринок лишь выгодно подчеркивается глотком жгучей «огненной» жидкости.
Рассуждая обо всём этом, Савва вышел из Горсада, прошел по улице Гоголя, свернул на Тургеневскую, спустился к Соборной, обошел стороной, у банка, дурно пахнущую конскими яблоками шумную стоянку извозчиков, что подле здания почтово-телеграфной конторы, и вышел, наконец, к Екатеринославской улице, где, за Торговыми Рядами, и располагался «Гранд-Отель».
***
Застолье ожиданий Саввы не оправдало. Нет, к кухне претензий не было вовсе. Закуски были отменны, а уха, благоухающая, прозрачная, щедро притрушенная свежей зеленью поверх перламутровых, искрящихся жирком и тающих во рту кусков стерляди, просто превзошла все мыслимые и даже немыслимые чаяния. Однако было грустно. Да так, что изнутри, казалось, скребут по трепыхающемуся сердцу когтями дикие звери. Какое уж тут удовольствие от деликатесов. А выпитый бокал игристого и несколько рюмок водки вслед, лишь усугубили ситуацию, вмиг превратив легкую, меланхолическую, казалось, грусть в безмерно наливающуюся отчаянием тоску. Одиночество, почему-то не особо тяготившее его ранее, ощутилось сейчас в полной мере, представилось вселенским злом, пуще злодеев в теснине вагонного прохода, пропахшего порохом и кровью, дьявольщиной, от которой не скрыться, не сбежать в дальние края, против которой не совладать никакой силой, ни приемами французской борьбы, ни кистенем, ни револьвером.
Савва понимал, что причину надо искать прежде всего исключительно в себе, что пора изменить свое отношение к окружающему, столь жестокому и враждебному миру, что стоит найти наконец единственную родную душу, к которой можно прислониться, когда тяжко, и рядом с которой не только уютно и покойно, но возможно почувствовать себя способным на любые дотоль невозможные свершения. Ведь именно так и происходит мировая круговерть. Все вершится лишь ради неё, той единственной и лелеемой в мечтах. И геройства, и злодеяния. Именно об этом, только другими, более складными словами, говорили величайшие поэты. Даже те, кто для пущего форсу, мнил себя нелюдимым отшельником, умело притворяющимся, что усмиряет на пенном океанском бреге или в дремучей чащобе неукротимый зов плоти.
Назар Кузьмич, наверное, посмотрел бы сейчас с ухмылкой и, без лишних аналитических сентенций, пробурчал едва слышно в бороду: «Бабу бы тебе, Савва, и всю надуманную тоску-печаль, как рукой снимет». Только Назара Кузьмича, Царство ему небесное, рядышком не было. А было странное и усиливающееся, как и тоска, ощущение нежелательного соглядатайства. Словно, кто-то приглядывал за всеми, шумно гуляющими в переполненном зале. И за Саввой, и за наигрывающим какую-то модную шансоньетку тапером, склонившимся над инструментом, и за франтоватого вида кавалерами, галантно выгуливающими барышень, что расположились за соседними столиками, и особо – за шумно, по-купечески, гуляющим в небольшой, исключительно мужской компании мелитопольским гостем. О том, что гость именно оттуда, Савва услышал от него самого. Частые тосты и здравицы, звучавшие в выгородке мягкими диванами для почетных гостей, в укромном углу залы за столиком компании, обильно перемежались его возгласами: «А вот у нас, в Мелитополе…».
Ощущение того, что за каждым его движением пристально наблюдают было настолько велико, что настроение окончательно испортилось. Пора завершать трапезу, думал Савва, и решать окончательно – отправляться ли к девицам в скорее всего безуспешной попытке развеселиться, или просто двинуться неторопливо по тихой в эту позднюю пору Екатеринославской домой, прогуливая, как те франтоватые кавалеры, перед сном свою тоску под тусклыми газовыми фонарями.
Тем более, что зал понемногу пустел. Вот и шумная мужская компания в углу залы отгуляла своё. Давешний мелитопольский гость столь же шумно, сколь и провозглашал здравицы, требовал от полового немедля вызвать к парадному входу извозчика, дабы не опоздать на ночной курьерский от Южного вокзала.
А что, вполне возможно и опоздать. На дурно мощеных александровских дорогах, да при дрянном освещении, кое городские власти всё никак не доведут до необходимых кондиций, чего только не случится. Савве вспомнилась довольно курьезная, если бы не сопряженная с увечьями и немалым ущербом, история, в расследовании которой довелось принимать участие.
Вот так же, как и сейчас отправлялась в позднюю пору от «Гранд-Отеля» пролетка с седоками в сторону вокзала и, проехав разве что с версту, сразу за шенвизским мостом угодила в передрягу. Не разглядев в сумеречном свете дальних фонарей препону прямо посреди дороги, извозчик наехал на телеграфный столб, невесть как оказавшийся под колесами. Понятное дело, с пролеткой – дело швах: передняя ось повреждена, задняя разлетелась вдребезги, колеса в стороны, седоки, как кули выпали наземь, благо дело не особо пострадали – отделались испугом да кровоподтеками, сам извозчик в шоке. Хорошо, следом, спустя с пяток минут, проезжали пустые дрожки. Седоки, потирая ушибы и чертыхаясь, подхватили вещи, пересели да отбыли, ни секунды немедля, к вокзалу, без скандала и разбирательств, от греха и Александровска подальше.
А расследование полиция провела. Как иначе: извозчик, выйдя из шока, подал прошение о случившемся да возмещении ущерба в адрес Городской Управы. Исправник лично давал распоряжение разобраться. Разобрались. И свидетелей нашли, Савва самолично расстарался. И злодеев обозначили. Оказалось обыденное: переплелись привычное разгильдяйство и наплевательское отношение к делу с дурью и прямым злым умыслом.
Ещё в светлое время дня, но уже на закате, возчик доставил из города к месту установки, неподалеку от моста через речку Московку, ближе к Шенвизе – поселению фризов-меннонитов, телеграфный столб. Сгрузил, да так и бросил. Прямо на булыжной мостовой. Не дождавшись по быстро наступающей вечерней поре рабочих, чтобы тотчас вкопать столб в положенное для него место. Правда, надо отдать должное, позже свидетель это подтвердил, аккуратно подкатил столб по всей его длине, едва не вплотную к бортовым камням, что отделяли проезжую часть дороги от пешеходного тротуара. Через час с небольшим, уже в сумерках, со стороны Шенвизе, показал тот же самый свидетель, в город направлялись пеше трое неизвестных ему подростков, явно не немчины, лет пятнадцати-шестнадцати, изрядно под хмельком; двое, несмотря на уговоры третьего и самого свидетеля, которому они обещали увечье, коли будет и далее встревать, с гоготом и руганью оттащили один конец столба к середине мостовой, напрочь перегородив, таким образом, движение из города. Свидетель, конечно, опасаясь за здоровье, а то и жизнь, поспешил удалиться. А ещё спустя чуть менее получаса вез седоков в сторону вокзала злополучный извозчик…
Тогда ущерб бедолаге-извозчику отчасти возместили. Решением Городской Управы. А вот злодеев так и не сыскали. Дело не мудреное, думал Савва, у нас так часто случается, что сыскать злодеев невмоготу. Или попросту желания особого нет?
Извозчика мелитопольцу подали на удивление скоро. Даже удивительно для обычно сонного и никуда не спешащего Александровска. Видать, уж слишком громко требовал гость оказать должное почтение, да ещё, поди, полтиной одарил полового для ускорения процесса. К тому времени и сам Савва рассчитался за стол, поблагодарил за доставленное удовольствие, оставил щедрые чаевые – ну, право слово, шеф-повар постарался от души и совсем не виноват, что минорный настрой именинника не соответствовал изысканной кухне заведения и торжественности момента.
Савва вышел из ресторана в тот самый момент, когда мелитопольский гость с трудом – выпил изрядно, чего уж, – взбирался в поданную пролетку. Он что-то недовольно ворчал и Савва, доставая из кармана папиросы, подумал, что извозчику будет с седоком непросто. Вывернет купчик бедолаге наизнанку всю душу по дороге. Единственное спасение – путь до вокзала недолгий.
В этот момент и случилось неожиданное. Прояснилась причина того, что подспудно тяготило весь вечер, довлело и угнетало. Савва вновь почувствовал на себе чужой, неприятный, нет, не то слово, – откровенно враждебный, ненавидящий взгляд. А потом увидел и человека.
Впрочем, увидел – сказано громко: в пролетку, рядышком с тяжело плюхнувшимся на сидение купцом, с противоположной от входа в ресторан стороны улицы, из едва различимой чернильной темноты, ужом скользнула тень. И прежде, чем, как растянутый мех гармошки, над сидением скрипуче развернулся полог, Савва на мгновение, не больше, встретился взглядом – глаза в глаза – с кем-то смутно знакомым, виденным единожды, но отпечатавшимся в памяти навсегда.
Встречный взгляд злых, по-волчьи широко расставленных, раскосых глаз ожёг Савву, блеснувший в проблеске правого керосинового фонаря экипажа, почти звериный оскал, заставил уронить папиросу и помимо воли отвести глаза. А когда Савва вновь их поднял, то увидел лишь полог стремительно удаляющейся пролетки.