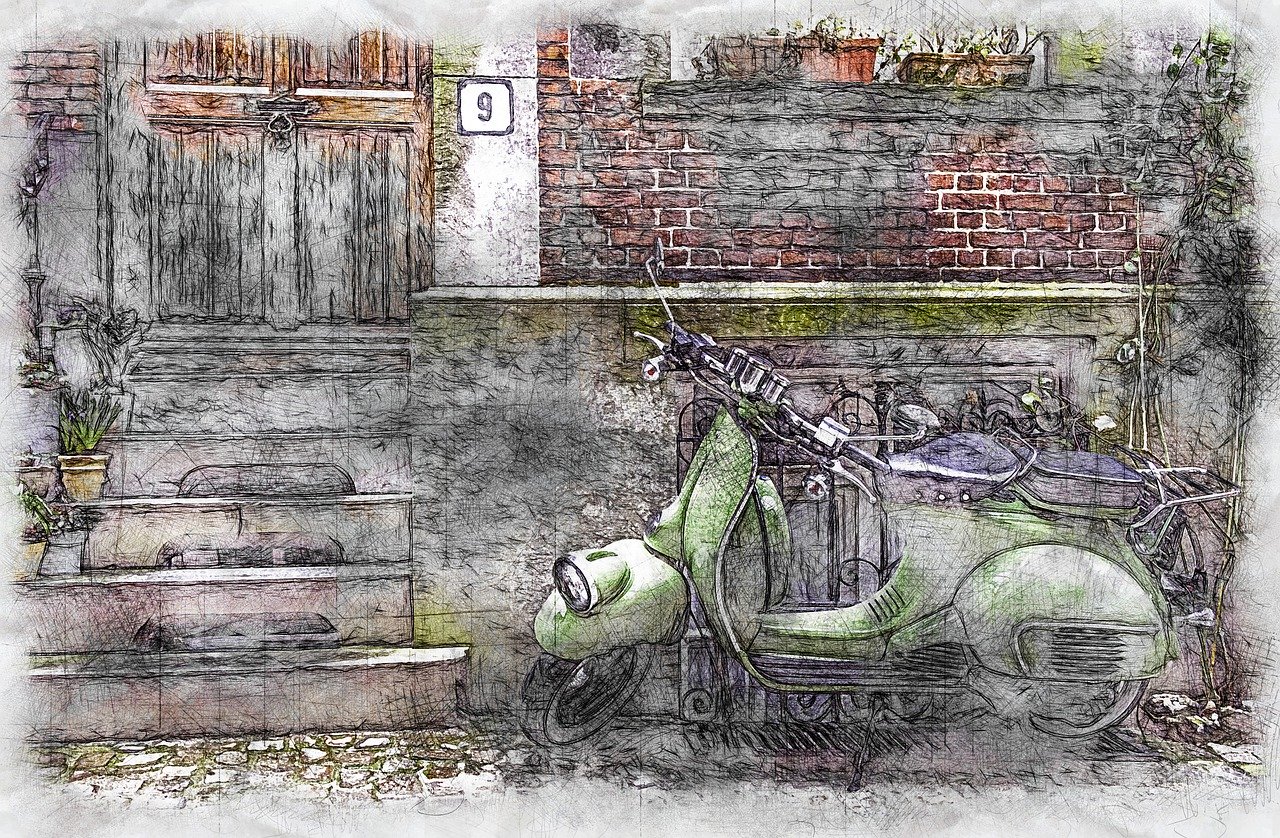ГЛАВА 3.
Circulus vitiosus (Порочный круг)
(воскресенье, 10 апреля 1904 года)
Сперва, едва лишь поселившись в Александровске, Блахеры снимали целых три комнаты в большом деревянном доме на углу Николаевской улицы и Филипповского переулка. Меньше никак не выходило: светёлка для Аглаюшки, крохотная спальня для них с Марией Вильгельмовной и почти квадратная зала с изразцовой печью, где собирались все вместе за круглым обеденным столом, и где в углу, у окна Карл Христианович приспособил книжный шкаф, уютное кресло и секретер, создав некое подобие рабочего кабинета. Место для жилья было не особо престижное, да и до службы далековато. Зато – плата вполне умеренна. А хозяева, семья никопольского мещанина Александрова – Гавриил Васильевич и Феодора Филипповна – и вовсе золото, люди достойные во всех отношениях. Грех жаловаться. К тому же у них была дочь Мария, 1886 года рождения, которая несомненно (по мнению Марии Вильгельмовны, чем она ещё при выборе квартиры не преминула поделиться с Карлом Христиановичем, получив его полное согласие) могла стать подругой Аглаи.
Однако сразу после смерти жены Блахер решил съехать. И не потому, что хозяева изменили в худшую сторону отношение к вдовому инженеру и его дочери. Напротив, и Гавриил Васильевич, и Феодора Филипповна окружили осиротевших жильцов особым, едва ли не чрезмерным вниманием. Просто Карл Христианович внезапно осознал, что среди уже привычной, созданной женой, домашней обстановки сходит с ума. Разговаривает с умершей супругой, ежедневно прикасаясь к вещам, сохранившим и её прикосновения. Слышит её шаги в поскрипывании дверей и рассохшихся половиц. И даже, примостившись в кресле подле книжного шкафа и закрыв лишь на мгновение глаза, немедля представляет её рядышком с собой, то хлопочущей и что-то негромко напевающей в зале или в комнатке дочери, то в спальне, прихорашивающейся перед сном на пуфе у зеркала над туалетным столиком.
Новое жильё (более скромное и в то же время более дорогое) отыскалось в престижном по Александровским меркам тихом дворе в квартале на пересечении Соборной и Днепровской улиц.
…Теперь путь с дочуркой от дома – квартирки из двух небольших, но уютных (спасибо Аглаюшке) меблированных комнат в одноэтажном флигеле усадьбы Бродских – вверх по Днепровской улице уже как два года стал для него привычным и вовсе не длинным. Мимо дряхлеющего, давно нуждающегося в замене корпуса Земской больницы до пересечения с улицей Гоголевской, где и располагалась женская гимназия. Всего-то минут семь ходьбы. Совсем не много. Даже для тучного, давно мающегося сердечной хворью заведующего мастерскими Александровского Механико-Технического училища Карла Христиановича Блахера.
Обычно Карл Христианович, провожая дочь в гимназию, напоследок целовал ее украдкой, дабы не смущать перед подругами, в отдалении от величественного здания, не перед ступеньками узорной входной арки, а ещё за оградой, крестил вслед, дожидался, когда за ней затворится дверь, утирал платком взмокший лоб, вздыхал с умилением и отправлялся далее. Но теперь он двигался не снова вверх по Днепровской улице до её пересечения с улицей Жуковской, чтобы, там, свернув вправо, возможно быстрее добраться к месту службы. А наоборот, сворачивал по Гоголевской влево, чтобы ненадолго попасть на Филипповское кладбище.
Кладбище это в Александровске считалось Старым. Там уже не хоронили. Сюда горожане лишь приходили поминать давно усопших. Захоронения же производились на Новом городском кладбище, расположенном и вовсе на окраине, за вокзалом Екатерининской железной дороги.
Впрочем, Карла Христиановича это не беспокоило. Он загодя, сразу же после безвременной кончины супруги, ещё до того, как установил над могилой гранитную стелу с высеченным плачущим ангелом, расстарался. Приобрел впрок место для себя. Чтобы лежать рядом с Марьюшкой. Вот и ходил теперь, проводив дочь в гимназические классы, ежеутренне к могиле жены. Зажигал свежую свечу в каменной лампадке. Сидел, вздыхая и утирая даренным дочкой платком с вышитой буквенной вязью непроизвольно текущие слезы, пребывал несколько минут в скорбном молчании на лавочке подле могилы.
Но сегодня, в день воскресный, когда без будничной спешки, хотелось побыть с женой подольше, его одиночество было неожиданно нарушено. И общение ему предстояло крайне неприятное. Такое, в котором и сознаваться постыдно, и избежать которого невозможно.
Дело заключалось в том, что Карл Христианович уже много лет, еще с конца восьмидесятых годов, состоял на связи с чинами жандармского управления. Сперва в Харькове. А теперь вот здесь, в Александровске, куда они с супругой и дочуркой в свое время вынужденно перебрались. И по причине получения им хорошего места с достойной оплатой в Александровском Техническом Училище и, в большей степени, тщетно, как оказалось, надеясь, что целебный воздух днепровских холмов исцелит сжигающую супругу чахотку.
Жандармский ротмистр Будогосцев, не в пример тучному Карлу Христиановичу, поджарый, моложавый крепыш в ладно сидящем мундире, с начищенными до блеска пуговицами, со щегольскими усиками каплеобразной, так называемой английской, формы, умел двигаться почти бесшумно. Блахер заметил его присутствие рядом лишь когда ротмистр, внезапно возникнув из-за спины Карла Христиановича, уважительно щелкнул шпорами и, слегка придерживая кончиками пальцев на согнутой в локте руке форменную, с темно-синим околышем и голубой тульей фуражку, учтиво, со слегка склоненной головой, замер у могилы.
– Мое почтение, господин Блахер! – приветствовал он, поднимающегося со скамейки Карла Христиановича. – Упокой, Господи, душу усопшей Марии! Царство Небесное и вечный покой! – ротмистр трижды осенил себя крестным знамением. – И тысяча извинений за то, что побеспокоил вас в столь неурочное время и в столь неподобающем для праздного месте. Но уж поверьте, дело крайне важное и совершенно не терпящее отлагательств!
Карл Христианович тяжело вздохнул. Надо отдать должное – ротмистр донимал его не часто. Да и то сказать, толку от его доносительства жандармскому управлению было не много. Что он мог – разве что отчитываться в имеющихся настроениях среди преподавателей училища да следить, дабы революционная скверна не свила себе гнездо в юных сердцах воспитанников. С немногочисленными местными товарищами – «друго-врагами» эсерами и эсдеками – близости особой у него не сложилось, так что и сообщать было не о чем. А теперь, после смерти жены, он и вовсе замкнулся в себе, предпочитая любому общению сладостное и совсем не тяготящее одиночество с книгой в домашнем кресле, впуская в свой мир разве что семнадцатилетнюю дочь Аглаю – единственного близкого человека.
– Я, Карл Христианович, в меру сил хочу помочь вам реализовать мечты мятежной юности, – усмехнулся ротмистр.
– Что вы имеете в виду? – Блахер, близоруко щурясь, вглядывался в искрящиеся лучиками глаза собеседника
– Цареубийство. Покушение на августейшую особу, – на лице ротмистра ширилась улыбка.
– Вы в своем уме?! – Блахер замахал руками и отшатнулся от жандарма.
– Совершенно. Здоров, как бык. И телом, и душой. Видите ли, мой дорогой, это будет не настоящее покушение, а лишь видимость. Фикция! Крайне необходимая, исходя из политических реалий, одобренная и организованная в самых высоких столичных кабинетах, имитация. А вот техническую составляющую её правдоподобия, дело важнейшее и требующее специальных знаний, я по долгу службы вверяю в ваши руки. И особо заметьте, – тон голоса ротмистра внезапно перестал быть опереточно-смешливым и приобрел металл – это не просьба, а приказ! Отказ – невозможен. Даже слышать не желаю!
Карл Христианович снова тяжело вздохнул и утер обильно выступивший на лбу пот платочком с вышитым на нем Аглаюшкой вензелем, в котором на фоне буквы «Б» фигурно переплелись буквы «К» и «Х».
Ротмистр скользнул взглядом по дрожащей руке Блахера, по вензелю на батистовом платочке и уже мягко, по-дружески, продолжал:
– И конечно, вам крайне необходимо отдохнуть. Вот и совместим, как говорится, необходимое с ещё более необходимым. Для вас с дочкой на самое ближайшее время с открытой датой уже приобретен номер в санатории «Александрабад» с курсом недельной терапии. Именно там, собственно говоря, будут происходить события. Не тяните с отдыхом. Завтра же и отправляйтесь. О текущих гимназических занятиях дочери и своей службе не беспокойтесь – вопрос закроем. А инструкции и детальные указания о дальнейших действиях будете получать прямо на месте, в санатории. У тамошнего лодочного мастера Петра Нестерова.
Ротмистр прервался и внимательно, очень серьезно посмотрел Блахеру прямо в глаза.
– Вы меня услышали, Карл Христианович?!
– Да! – вмиг пересохшей гортанью просипел Блахер.
– Вот и хорошо! Вот и ладушки! На сем и порешим. А вам за усердие обязательно будет награда и благодарная память потомков: глядишь когда-нибудь, в недалеком грядущем, Днепровскую улицу, где вы теперь проживаете, переименуют в память о доблестном агенте секретной службы ваших эстонских кровей. – Ротмистр снова заулыбался, достал из кармана золотой брегет, щелкнул крышкой с дарственной гравировкой, удивленно присвистнул. – Ого! Время-то на месте не стоит! Не смею далее задерживать. Служба-с!
Глядя вслед уходящему ротмистру Карл Христианович с тоской подумал, что порочный круг его несуразной жизни, который столь нескладно чертила судьба с декабрьских дней в далеком восемьдесят седьмом, теперь, в апреле девятьсот четвертого, столь же нескладно завершается.
«Что же будет потом, после меня, с Аглаюшкой…» – билась в виски мысль, на которую он так и не мог дать ответа.
***
Первого декабря одна тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года студенты Харьковского практического технологического института массово прекратили занятия и собрались на митинг. В морозном воздухе над толпой в форменных шинелях явственно витал крамольный дух свободы. Выступающие поминали всуе императора Александра Александровича и покушение на его августейшую особу, сочувственно высказывались о безвинно казненных по приказу царя-кровопийцы, пламенно клеймили позором репрессивную практику правительства и поддерживали состоявшееся накануне выступление московского студенчества.
По распоряжению губернских властей институт был тут же закрыт и отдан под охрану полиции, а пятьдесят шесть студентов из числа наиболее возмутительных смутьянов, выявленных в толпе митингующих полицейскими филерами, немедля исключены с «волчьими аттестатами».
В ответ уже третьего декабря студенты-технологи вместе со студентами университета и ветеринарного института организовали на Университетской горке демонстрацию протеста против репрессивных действий власти. А на следующий день, четвертого декабря, здесь же, на Университетской горке, во время очередного митинга дело дошло до рукоприкладства: случилось столкновение студентов с полицией. Восемь студентов технологического института и шесть студентов университета – по большей части вовсе и не зачинщики беспорядков, а выхваченные наугад из безликой в своем возмущении, серо-зеленой, беспорядочно машущей руками студенческой массы, были арестованы и отправлены в тюрьму.
Пухлого белобрысого чухонца двадцати семи лет отроду, студента технологического института, арестовали среди иных участников этой, по мнению вышедшей в этот день газеты «Южный Край», постыднейшей и неуместной драки харьковчан-недорослей с полицейскими чинами при исполнении. После обязательного при подобном задержании тщательного оформления в участке регистрационной карты с бертильонажем, дактилоскопированием и производством фотографического снимка, случилось унизительное. Младшие чины, следуя привычному молчаливому кивку исправника, отвели чухонца в укромное, для того и предназначенное помещение, и беззлобно, наскоро, не столько для увечья, сколь для острастки (чтобы умылся кровавой юшкой) надавали зуботычин и болезненных, но малозаметных пинков под ребра. Сам же исправник в это время произвел телефонирование полковнику Вербицкому и отправил по его просьбе ознакомительные бумаги на задержанного в охранное отделение. Потом студента исключительно с воспитательной целью, на короткий срок – всего-то в ночь – отправили для передержки в общую с уголовными тюремную камеру. А сразу поутру, уже без башлыка верблюжьей шерсти, суконного полупальто и новых сапог, которые остались у уголовных в камере, студента доставили для допроса к начальнику харьковского охранного отделения. По срочному распоряжению. Сорвали прямо с нар, как был. В стоптанной обувке с чужой ноги. В рваной форменной шинели тёмно-серого сукна поверх мундира, обильно измаранного уже подсыхающим бурым. С надорванной у отложного ворота петлицей синего бархата с выпушкою и чудом уцелевшей в ней при потасовке желтою пуговицею гладкого металла.
Доставленный в кабинет перепуганный студент, по всему таки изрядно помятый в суматохе вчерашней стычки на Университетской горке, в одежде, уже успевшей впитать характерный тюремный запах, томился неопределенностью своей дальнейшей судьбы, стоя, куда поставил конвой, и – против яркого оконного света в простенке у дверей. Разглядывал сидевшего за столом под портретом императора жандармского полковника, угрюмо сопел разбитым в кровь носом, топтался с ноги на ногу, мял в руках фуражку. На лбу обильно зарождалась испарина – в кабинете сообразно легкому декабрьскому морозцу расторопный адъютант распорядился затопить камин, заправили топку исправно – ни сухих дубовых чурок, ни горючего угля не пожалели.
Хозяин же кабинета, полковник Вербицкий, невозмутимо, словно пребывал в одиночестве, продолжал заниматься своим делом, и, казалось, не обращал на арестованного никакого внимания. Увлеченно разбирал деловые бумаги, разбросанные небрежным ворохом по зеленому сукну перед ним на столе. Вдумчиво разглядывал иные. Делал пометки роскошным «фаберовским» карандашом. Вчитывался. Складывал аккуратными стопками. А другие, со щелчком проворачивая ключик и бесшумно выдвигая ящички, прятал куда-то в бездонную утробу стола.
Стол у полковника был достойный – дубовый, широкий, с массивной тяжелой резьбой по краю столешницы, на низких резных ножках-львиных лапах, с четырьмя резными же львиными мордами на боковинах. На столешнице в центре располагался роскошный, малахитового камня с бронзой и золочением, письменный набор из дюжины предметов, слева – новомодная под зеленым абажуром электрическая свеча с закрученной спиралью вольфрамовой нитью. Справа в витой бронзовой рамке любимый семейный фотопортрет: старшие мальчики у столика с открытыми книжками в руках, подле, по обе стороны, в глубоких стульях с подлокотниками, сам Константин Павлович, опершись на эфес наградной шашки в инкрустированных ножнах, и супруга с улыбчивой младшенькой дочуркой на коленях.
Наконец полковник закончил свою показную, крайне немудреную для человека бывалого, знающего, но совершенно непонятную студенту деловую активность и поднял голову, словно лишь сейчас заметив присутствующего. Он с явным читаемым в глазах сожалением и сочувствием скользнул взглядом по разбитому лицу студента и его находящейся в беспорядке одежде.
– Эко вас отделали! Форменное безобразие! Если дознаюсь, что наших полицейских чинов работа – обязательно прикажу наказать негодяев! Вы – Блахер Карл Христианович, если не ошибаюсь? А я – Вербицкий Константин Павлович, начальник жандармского управления по Харьковской губернии. Что же вы, молодой человек, замерли-то в дверях?! Ну-ка! Не робейте и не смущайтесь! – полковник вышел из-за стола и по-отечески мягко приобнял всхлипнувшего помимо воли студента за плечи, – Проходите! Раздевайтесь с мороза. Шинельку можно сюда, на вешалку. Да и головной убор туда же. Я ведь – не господь Бог. А кабинет мой – не синагога. Здесь можно попросту, с непокрытой головой. И присаживайтесь. Присаживайтесь, ради всего святого! В ногах, как известно, правды нет! – полковник широким жестом радушного хозяина указал на стоявший посреди кабинета, совершенно чужеродный иной наличествующей здесь мебели красного дерева, простой табурет, – А я пока чайку распоряжусь. Разговор предстоит не скорый. Будем знакомиться поближе…
Константин Павлович Вербицкий уже десять лет кряду состоял в Отдельном корпусе Жандармов. Был достаточно хорошо подготовлен для подобного рода службы, имел военное образование (окончил по первому разряду Полтавскую военную гимназию и Третье Александровское военное училище), хорошо характеризовался и даже на протяжении полутора лет занимал должность начальника жандармского управления в Санкт-Петербурге. Но в столице усилиями завистников не удержался, был вскорости отправлен в почетную ссылку (благо в южные губернии империи, не за Уральский хребет, в какой-нибудь Тобольск или, пуще того, на Сахалин) на должность начальника губернского жандармского управления. Сперва Одесского, а теперь и Харьковского. Константин Павлович обиды на столичных интриганов не затаил и будничной провинциальной работы не чурался. А существующее положение вещей воспринимал без излишней экзальтации, лишь как лестницу, пологую, но вполне комфортную, по которой, со временем, открывалась возможность вновь подняться в вожделенный кабинет здания на столичной Очаковской улице 8/15.
Студент жадно, нервически постукивая зубами о край стакана, хлебал поданный адъютантом чай. В меру горячий, безумно сладкий, с ароматной лимонной долькой. Сидел он на табурете неловко, боком, обхватив двумя почему-то дрожащими руками медный, под золото, подстаканник, в котором жалобно позвякивала о тонкое стекло серебряная ложечка.
– Давайте, Карл Христианович, наперед уговоримся, – полковник, вышагивал перед студентом взад-вперед, слова в предложения складывал твердо, отрывисто, с металлом в голосе, словно чеканил команду на плацу перед строем. – Я вам – вопрос, вы мне – ответ. Коротко. Без лишней воды. Честь по чести. Тем паче, что имена смутьянов, подробности случившейся баталии и прочие ваши тайные тайности мне совсем и без надобности.
– О чем же вы хотите говорить? – пробормотал студент.
– Как о чем?! Исключительно о вас, господин Блахер! – полковник прекратил ходить и остановился прямо перед студентом, картинно заложив руки за спину.
– Что же во мне такого особого? – глухо спросил студент, глядя на полковника снизу вверх.
– Ну как же!.. – жесткость из выражения лица и слов полковника мгновенно ушла, осталось только изумление. – Помилуйте, разве кто иной в Практическом Технологическом может похвастать, что с личного одобрения директора заведения, профессора Кирпичёва, уже третий год одновременно проходит обучение на двух отделениях? Вы ведь, Карл Христианович, оказывается настоящий уникум, и по механической части специалист, и в химии дока. Не так ли?!
– Получается так.
– И что немаловажно, – продолжал полковник, – в вашем настоящем семейном положении, а особенно теперь, после рождения доченьки, это то, что институт берет с вас обязательную плату всего-то в пятьдесят рублей. Как будто бы вы обучались лишь по одному факультету. Я не ошибаюсь? Вы не стесняйтесь, поправляйте, если буду не точен.
Студент молча кивнул в ответ.
– Значит, плату за обучение, – задумчиво тянул слова полковник, – с вас особым приказом господин Кирпичёв приказал брать, не как полагается соответственно регламенту заведения, а лишь за один курс. Всего-то пятьдесят рубликов, вместо положенной сотни, возложив иные расходы на счет казны.
Студент обреченно вздохнул.
– Вы, Карл Христианович, не подумайте, чего дурного. Я в добрых намерениях Виктора Львовича ни на йоту не сомневаюсь. Как и в целесообразности принятого решения – державе грамотные инженеры, как, впрочем, и химики – крайне необходимы. Только ведь требуются специалисты, процветанию отчизны способствующие, а не цареубийцы и смутьяны-разрушители устоев! Вы ведь не будете спорить, что процветание любого государства зиждется лишь в перманентном техническом прогрессе и ежедневном торжестве научной мысли, а не во властвовании бескрылых догматиков и фанатических якобинцев, способных лишь на трескучую болтовню и кровавый террор. Вы согласны?!
Студент снова кивнул. А полковник продолжал:
– Для пользы отечества место сиим, последним, – исключительно в остроге. Или на плахе. И они там нашим скромным усердием и бесконечной Божьей милостью непременно окажутся. Все до единого. Можете поверить!
Студент заерзал на неудобном табурете.
– Но оставим судьбу гипотетических якобинцев провидению, – полковник, едва заметно покачиваясь с каблуков на носки зеркального хрома сапог, с интересом рассматривал тоненький серебряный обруч колечка на безымянном пальце правой руки студента. – Я, Карл Христианович, грешным делом, по долгу службы ваши личные бумаги, из полицейского участка пересланные, полистал. Полистать полистал, да уяснил не всё. Позвольте, по-стариковски, праздно полюбопытствовать, супруга ваша, Мария Вильгельмовна, не урожденная ли Грюнер, дочь Вильгельма Ивановича, коллежского регистратора из Канцелярии губернатора? Нет?! И слава Богу, заботой меньше. Уж как бы старик расстроился, узнав об аресте зятя. Не приведи господь! Ладно, Бог с ним! Тем более, что вам теперь до тестя и его суждений, коли вы уже и сам отец?! У вас ведь, как и у меня, – доченька?!
– Да, – пролепетал студент, кивая головой.
– Как звать-то?
– Аглая, – совершенно растерянно прошептал студент.
– Что же вы смущаетесь? Имя хорошее! Благостное! Есть в нем и красота, и радость. А ежели, к столь достойному имени ещё и вполне достойное отцовское уместно присовокупить – Аглая Карловна – полнейшее ликование получится!
Студент завороженно смотрел на полковника, не понимая, куда тот клонит разговор.
– Арестовывать вас, господин Блахер, резона никакого нет: ломать походя жизнь и оставлять женщину без заступника, да ребенка сиротить – дело богопротивное. Да и вины особой за вами не вижу. Хотя, конечно, если следовать букве закона и дать делу ход… Посадить может и не посадят – адвокат, если хорошего, недешёвого сыскать, расстарается, присяжные в суде смилостивятся, – но вот о завершении образования придётся забыть. А коли даже, и останетесь при студенческом билете, – плату за обучение надо будет впредь вносить полновесно. И недоимки вернуть в казну. Достанет ли вам возможностей? При всех иных сегодняшних расходах!..
На глаза студента помимо воли навернулись слезы, а пухлые губы еще больше вздулись. Он попытался что-то произнести, но полковник остановил его жестом.
– Мы с вами, Карл Христианович, вот как поступим. Отпустим вас, пожалуй, подобру-поздорову. Безо всяких последствий.
– И всё?! – изумился студент.
– А чего ещё?! Не удивляйтесь – о нас много неправды говорят, цепными псами оскорбительно называют, опричниками, а ведь первоочередная задача жандарма не карать совершенное злодейство, а предвосхищать оное, искореняя саму возможность и тем всемерно способствуя всеобщему здоровью и покою. Вам понятие «санация» знакомо?
– Да, конечно.
– Вот и живите дальше, в здравии и покое. Двадцать семь лет отроду – самое время для счастья! Завершайте достойно образование. Любите жену. Воспитывайте дочурку! Более того, буду ходатайствовать за вас перед начальством. Положим вам, как блестящему, способному к наукам студенту, особую ежемесячную стипендию. Не столь много, как хотелось бы, возможности у нас, в отличие от возможностей профессора Кирпичова, крайне ограничены. Но рублей тридцать – вполне осилим. Надеюсь, эти деньги лишними не станут?
– Но что потребуется от меня взамен? – со вновь возникшим подозрением произнес студент.
– Ровным счетом ничего. Прежде всего, посвятить себя самого не бессмысленному нигилизму, не революционному мороку, но лишь истовому служению отечеству. А помимо того, по мере возможности, и окружающим не давать свернуть с праведного пути. Не пугайтесь, доносить на друзей не придется – дело это вам поручать никто не собирается. Да и вовсе, это, по моему мнению, – занятие гнусное, такое, что не пристало благородному человеку. Для того у нас имеются особые люди. Вам же надо лишь не забывать, что любая хворь, телесная и душевная – прежде всего, смертельно опасна для самого больного. И помочь ему справиться с ней, не доводя до греха и оказывая посильную помощь лекарю, дело вполне достойное.
(Продолжение следует…)