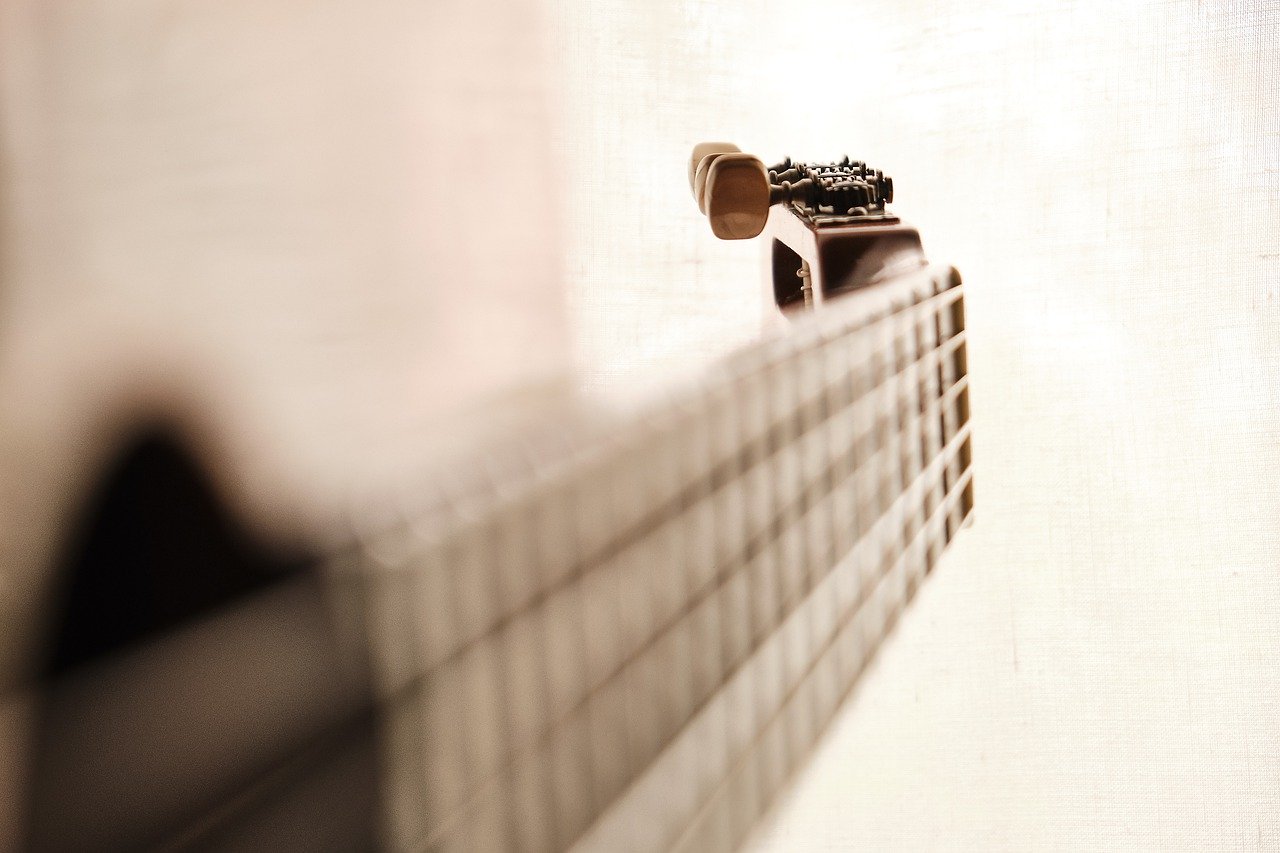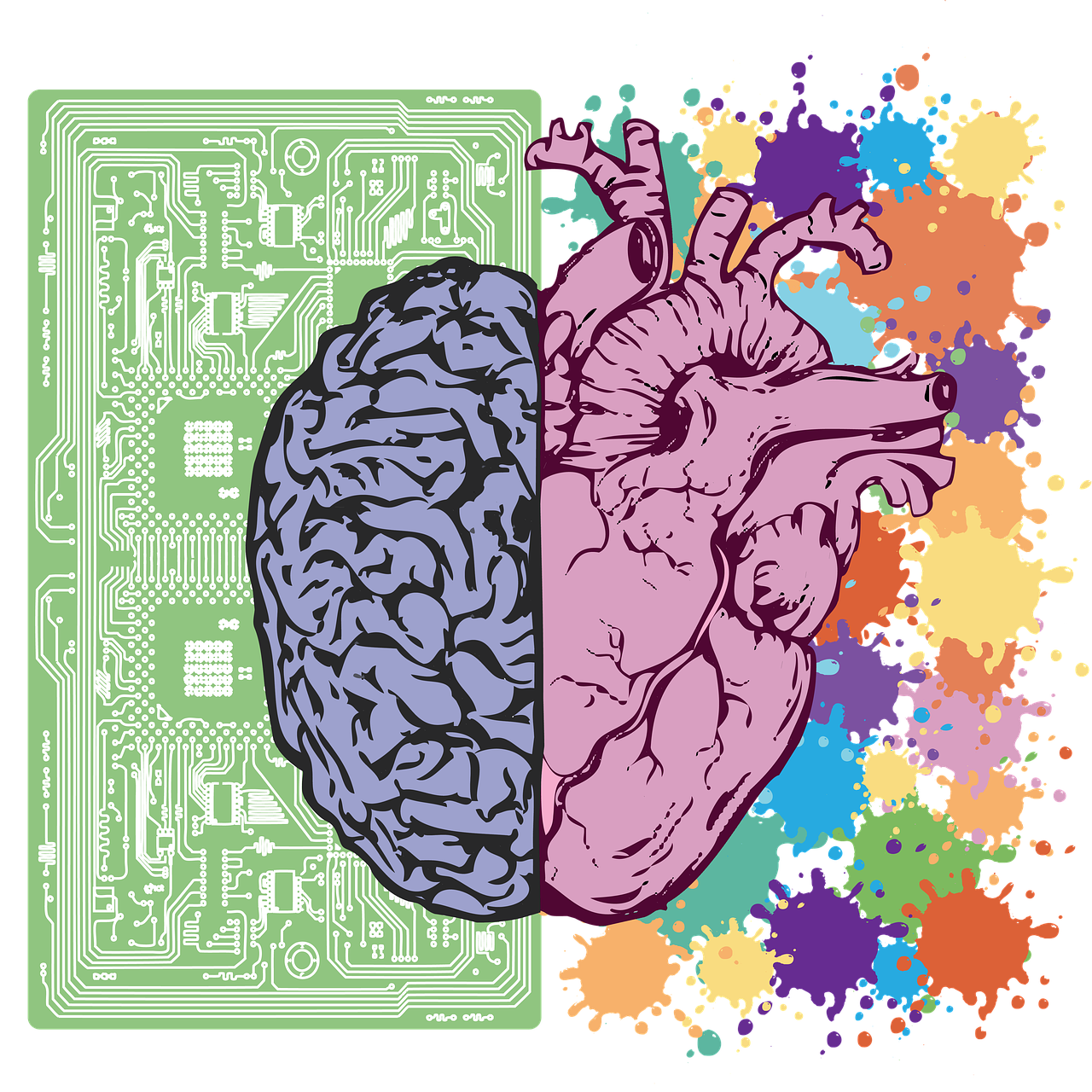Улица была широкая, в середине проходила немощёная дорога, изрядно расквашенная колёсами тракторов и машин, сбоку вилась пешеходная тропка, ровная, хорошо утоптанная. По этой гладкой тропе было сказочно приятно ехать на велике.
Моё велосипедное детство прошло в Каблукове — в Москве мне ездить не позволяли, считалось, что это слишком опасно. Я страшно завидовала соседу Кирюше, которому велосипед в городе был разрешён, но мне «отрываться» приходилось в деревне. И я отрывалась по полной. Под руководством старшей подруги Тани Костровой я быстро освоила все доступные велотрюки, вплоть до езды без рук. Мы гоняли с ней наперегонки и вдоль деревни, и по полю почти до дальнего «страшного» леса, и к реке, разумеется. Видела бы это мама, она бы и в деревне велик запретила, но она не видела.
Танина семья снимала дачу в соседнем от нашего доме, у Евдокии Тихоновны, которую вся деревня считала куркулихой. Она брала со своих дачников триста рублей за лето, тогда как наша хозяйка Ольга Ивановна брала всего сто пятьдесят. Таня была совершеннейшим атаманом, решительная, бесстрашная, придумывавшая каждый день новые развлечения для всей честной компании. Кроме нас с ней в компании все дети были местные — деревенские или из соседних городов — Щёлкова и Фрязина, приезжавшие на лето к бабушкам в деревню. Таня была самая старшая и пользовалась всеобщим уважением. Благодаря Тане все деревенские дети знали, что дачники из Москвы — тоже стоящие ребята!
Пацанов в компании не было, но игры и, вообще, занятия были совершенно пацанские. Ни в какие куклы-дочки-матери мы не играли, а играли в «казаки-разбойники», «сыщик-ищи-вора» и в разведчиков. У меня и погоны бумажные были пришиты с буквой Р — разведчик.
Тут главное — не скатиться в стиль ежегодного школьного сочинения «Как я провёл лето?» Однажды, классе в пятом, я написала «… по вечерам мы ходили в кусты…», чем немало развеселила нашу англичанку. «Что же вы делали в кустах, Надя?»
Что делали, что делали — строили шалаши, жгли костры, смотрели в огонь, следили зачарованно, как искры улетают в тёмное небо. Всё это, конечно, потому, что мамы наши были в Москве, а нянькам такое времяпрепровождение не казалось опасным.
На речку тоже ходили чаще без нянек. Мимо общественных амбаров, через заливной луг, дальше тропинка ныряла в ивовые заросли, и сразу открывался небольшой пляж. Шириной метров десять–пятнадцать, длиной — не больше пятидесяти метров. Места, как ни странно, хватало всем желающим. Слева — выше по течению — было совсем мелко, дно заросло травой и кувшинками, справа — под водой опасно чернели полусгнившие опоры разрушенного моста. В центре было достаточно глубоко, чтобы уйти под воду «с ручками». Там все и плескались. На другом — высоком и обрывистом — берегу росла старая толстая ива, к ветке которой над водой была привязана тарзанка. Залезть на неё отваживались только самые ловкие подростки, а я могла только издали смотреть. Так ни разу и не прыгнула! Со столбиков моста, впрочем, прыгала, хотя это тоже было страшновато: кто там знает, сколько ещё этих столбиков в глубине?
В дальнем конце деревни был ещё один пляж, назывался почему-то Гусиный уголок. Ребята с того конца деревни хвастались своим пляжем, говоря, что наш никуда не годится, что он совсем малышовый, а Гусиный — взрослый, для взрослых независимых людей, а не для таких малышей, как мы. Этим они, конечно, страшно разожгли наше любопытство, и настал день, когда мы с Таней — без спросу, чтоб никому ничего не объяснять — сели на велики и удрали на дальний пляж. Там мы довольно долго плавали, ныряли и загорали, но ничего особенного так в нем и не нашли. Когда накупались — покатили домой, и тут-то и стало понятно, что день для праздника непослушания мы выбрали неудачно. Я совсем забыла, а Таня и не знала, что в этот день меня должны были везти в цирк на вечернее представление. Поэтому усталые паломники дальних пляжей были встречены моим разъярённым отцом, приехавшим за мной, и встревоженной нянькой, которая не знала, где этих неслухов искать. В тот день мне единственный раз в жизни прилетело по мягкой попе твёрдой отцовской ладонью. Запомнилось поэтому. В цирк мы, помирившись, разумеется, поехали. А вот на пляж дальний почему-то больше не тянуло.
Самое девчачье из всех наших занятий — выращивание найденного котёнка. Где мы нашли его, бесхозного, уже не помню, а вот выращивали его всей компанией в чистом поле, где поселили его в большой коробке и отпаивали принесённым с собой молоком из принесённого с собой блюдца. Примерно сутки выращивали, а потом бабушка одной девочки из нашей шайки разведчиков смилостивилась и разрешила взять котейку в дом.
С Таней мы дружили с утра до вечера. Дачные наши владения разделялись, конечно, забором. Хоть и высоким, но прозрачным. Вообще, в то время в деревне заборы были только средством межевания и защиты от скота. Препятствий глазу они точно не создавали. Да и зачем? Не принято это было. Хозяйства победнее были огорожены заборами из некрашеных тонких кольев, побогаче — штакетником, выкрашенным в тёмно-жёлтый или тёмно-зелёный цвет. Во всей деревне был один только двор, огороженный сеткой, про которую я теперь знаю, что её зовут рабица, так мы специально ходили смотреть на диковину, за которой лохматились кусты богатейшей малины. Разумеется, у Ольги Ивановны был забор из кольев, а у зажиточной Дуни — аккуратный штакетник. Кроме реденького забора наши дворы разделял большой куст сирени и два тощих деревца ирги. Но видимость была полная, поэтому мы были вместе с утра и до вечера, и семьи наши тоже дружили. Маму и папу Таниных я не очень-то помню, то есть помню только, что они были. Зато хорошо помню Таниного дедушку. Я запомнила его из-за неприличной истории. Кажется, его звали дед Саша, но Таня говорила, что звать его нужно Бэмбел. «Почему Бэмбел?»
«Потому что он Бэмбел и есть! Знаешь песню: «Шаланды полные кефали в Одессу Бэмбел привозил”?»
Мне-то казалось, что песня звучит немного иначе. Но Бэмбел, так Бэмбел. Что означало это имя, она мне не рассказала, но понятно было, что это такое специальное имя для игры дедушки и внучки. Я, конечно, никогда его так не называла.
Танин дед относился к нам снисходительно, участвовал в наших играх. В игре мы забывали, что дед — взрослый, а не ровесник нам. Однажды я, разыгравшись, дёрнула деда сзади за трусы, да так сильно, что стянула их совсем — на глазах у всей семьи. Взрослые были сконфужены чуть ли не больше меня самой, но засмеялись, а меня совсем не ругали. Но мне-то было ужасно стыдно, конечно.
Мы с Таней и в Москве жили не очень далеко друг от друга, но не помню, чтобы встречались. Письма друг другу писали изредка, посылали друг другу маленькие подарочки. Чаще всего такими подарочками оказывались удачно добытые пластинки жевательной резинки. Таня учила меня: «Будешь посылать жевачку, клади в конверт два листа картона, а пластинку прячь между ними, а то на почте прощупают и вынут». Можно ли было после таких слов зажилить и не послать вожделенную пластинку? Таня мне тоже присылала.
Ах, жевачка! Такая недоступная, такая желанная! Предмет культа и универсальная валюта советских детей. В СССР её в то время не выпускали, редким счастливчикам привозили из-за границы. Остальным перепадало от счастливчиков — от случая к случаю и понемножку. Пластинка, подушечка, шарик, палочка-сигаретка. Ещё и бумажки от использованной жевачки не выбрасывались, потому что тоже служили валютой. У сестры среди её взрослых сокровищ скопилась за школьные годы целая коллекция обёрток и вкладышей, аккуратно разложенная по полиэтиленовым кармашкам специального кляссера. Мне трогать нельзя было, но из рук сестры смотреть и нюхать не возбранялось. Все эти фантики вкусно пахли иноземной чудесной жизнью.
Одна девочка постарше рассказывала детсадовской малышне, что жевачку можно самим делать — из чёрного хлеба. В хлебе, дескать, клейковина, и если его жевать долго-долго, то клейковина превращается в жевачку. Она даже демонстрировала нам это, неизменно доставая изо рта крохотные кусочки резинки. Я ни разу не смогла дожевать хлеб до нужной консистенции, но всё равно девочке верила. Я не знала ещё, что люди могут выдумывать неправду. Я и сейчас правду больше люблю, потому что, мне кажется, она интереснее.
К концу семидесятых в Москве появилась жевачка из Прибалтики — брусочки и пластинки Таллинского завода «Калев». Она, конечно, отличалась от импортной примерно как счёты от калькулятора, и в качестве детской валюты ценилась гораздо меньше, но всё равно это был прогресс.
Только с концом Советского Союза жевательная резинка потеряла сакральность и стала простым недорогим продуктом, имеющим своё ограниченное применение.
Таня была для меня очень важным человеком в первые школьные годы. Потом приезжать в Каблуково она перестала, потому что родители её сняли дачу чуть дальше по Щелковскому шоссе, сразу за первой бетонкой, в деревне Протасово, где на автобусной остановке была гордая надпись «Олимпийская деревня Протасово». До московской олимпиады оставалось ещё несколько лет, а олимпийская деревня уже была! Мы пару раз гостили друг у друга, но постепенно встречи становились реже, а потом и вовсе сошли на нет. Когда появился интернет с соцсетями, я пыталась Таню разыскать, но ничего не вышло. Большие девочки обычно выходят замуж, и кто ж их найдёт с новой неизвестной фамилией?
Продолжение следует…