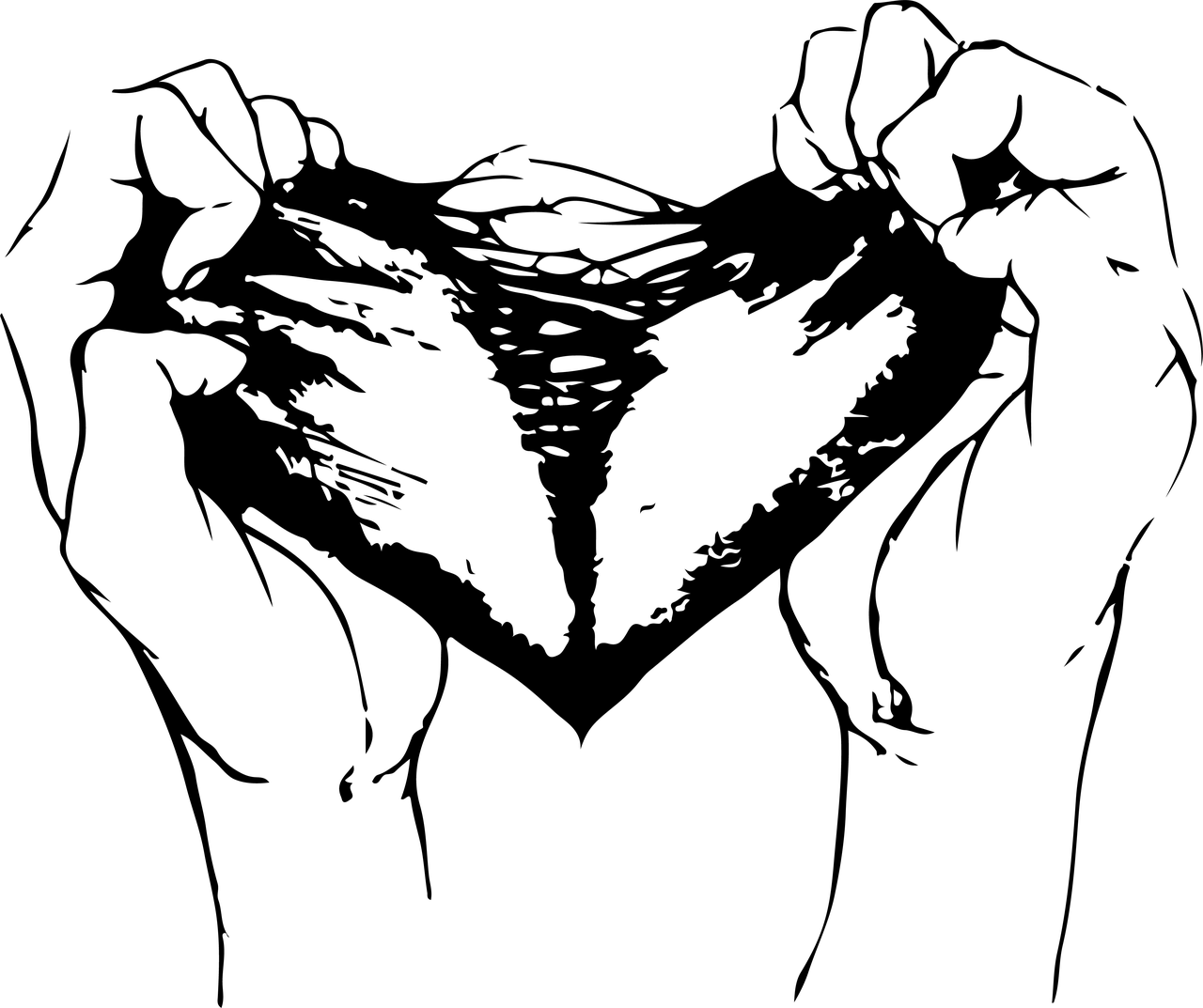Товарищ Ленин, работа адовая
будет сделана и делается уже
Владимир Маяковский
— Ты бы хоть обои, Андрюша, переклеил что ли, — взгляд гостя в костюме от «Бриони» или «Гуччи» брезгливо скользит по засаленным пятнам на стене и упирается в облезлую панельную хрущёвку за оконным стеклом, — разве можно в таком свинарнике. В комнату, вижу, не приглашаешь, там ещё печальнее картина?
— Обои — да, пора, — покорно соглашается хозяин. — Хотел просто кофе сделать. Потом в комнату. Если хотите.
— Да ладно уж. Давай здесь. На рабочем месте, так сказать. Здесь творил, признавайся? Алёна тебе в комнате не позволила бы. Ты ведь за рукописью как паровоз дымишь.
На кухне двое. Пришедший заметно утомлён после напряженного рабочего дня. Опустившись на табурет между столом и холодильником, ослабляет узел галстука, облокачивается на стену и с облегчением вытягивает ноги в серо-голубых итальянских туфлях. Хозяин — небритый худой мужик неопределённого возраста в линялых штанах топчется босыми ступнями по линолеуму у плиты, поочередно посматривая то на шумящий чайник, то — робко — на гостя. На столе две чайные чашки из сервиза, нарядные и пузатые как близнецы. Рядом примостилась пачка молотого кофе, наполовину пустая, с бельевой прищепкой сверху и планшет в потертом футляре из искусственной замши. Узкая струйка дыма от вдавленного окурка топорщится над пепельницей.
— А если кофе прямо в чашках? Если прямо в чашках заварим? Я, когда писал эту штуковину, мне не хватало терпения стоять над плитой, — хозяин не то обращается к гостю, не то говорит сам с собой. — Да и нет нормальной турки. Теперь. Уже нет. Мою Алёна забрала. А этот вот кофе — мелкий. Хороший. В чашках нормально. Или сварить? В ковшике можно попробовать. И сахара нет.
В пиджаке у гостя оживает телефон. Он полминуты слушает, потом отвечает.
— А ты ему скажи, что у нас для всех авторов правила одинаковые. И когда программа Word перестанет подчеркивать его фамилию, тогда он сможет диктовать нам условия. А пока или по правилам нашей редакции, или никак. Нет. Я не буду сам с ним разговаривать. Я за это и плачу тебе деньги, секретарь не только чай приносит, ты не знала? — он поднимает лицо к хозяину. — Прости, Андрей, что ты говоришь?
— Я говорю, сахар закончился. А кофе можно в ковшике заварить или прямо в чашке кипятком. Залить. Нормально получается.
Гость равнодушно машет рукой.
— Не суетись. Я не гурман кофе. В чашках так в чашках. Давай лучше к делу.
— Хорошо, спасибо, — хозяин делает глубокий вдох и решительно начинает. — Это, значит, как бы киносценарий такой. У меня тут написано, — он кивает в сторону планшета. — Но частично. Я что-то буду вам читать, а что-то просто рассказывать. Из головы. В голове у меня всё есть, но я не знаю как правильно сценарии писать. Да и терпения, и сил уже нету сейчас дописывать. Вы послушаете, и скажете, можно ли из этого сделать что-то толковое.
— Андрюша, дорогой. Не надо повторяться. Пишешь ты хорошо. «Кривые истории» — могла бы получиться достойная книга, будь ты потерпеливее и ээ… подипломатичнее.
— Я просто на взводе был тогда… Ну и само собой немного. Лишнего.
— Послушай. Я с пониманием отношусь к твоим житейским неурядицам. По возможности буду рад помочь. Ты не просто автор. Ты мой старый друг.
— Спасибо, что помните. Почти за одной партой когда-то. Теперь — как фантастика. Где вы и где я.
— Да, теперь мы, мягко говоря, на разных ступенях социальной лестницы. Однако не будем терять время. Вчера ты сказал, что текст сырой и требует живых комментариев. Именно поэтому я здесь. Маленький бытовой рассказ — это твоё, получается очень хорошо. Узнаваемо. Насколько тебе по силам что-то более крупное? Не знаю. Увидим. Начинай.
Хозяин еще раз вздыхает, опускается на табурет рядом и раскрывает замшевый футляр. Кнопка заедает. Андрей начинает рассказ и одновременно борется с непослушным планшетом.
— Фильм. Представьте. Чёрный экран. Потом на нём пишутся и одновременно дублируются голосом слова: «Запечатывается гроб сей…», ну и так далее, что там говорит священник в последнюю минуту, перед тем как покойника опустят в могилу. И закопают. В том смысле, что запечатали и до Второго Пришествия Христа не беспокоить. Буквы гаснут. Тишина. Потом слышно прерывистое дыхание и хруст, как будто продавливается снежный наст. На экране чёрные пятна на голубом фоне. Двигаются. Дергаясь. — Хозяин трясёт рукой, мучительно пытаясь изобразить картинку из своей головы. — Это зимний лес. Ельник. Чёрные ёлки на голубом снегу. Морозная ночь. Мы смотрим как бы изнутри бегущего волка. Его глазами.
— Андрей, визуальный ряд это уже режиссёра парафия. Не надо туда лезть. А то ты мне и до утра не расскажешь. После тебя я ещё одну встречу запланировал. Так что ускоряйся.
— Да-да, я понял. Дыхание и наст проламывается под лапами. Потом появляется посторонний звук. Гудение. Пятна перестают двигаться. Волк остановился. Прислушивается. Гудение приближается. Волк пробегает ещё немного и опять останавливается. Он на вершине холма. Заснеженный лес впереди прорезан черной полосой автострады. Движущееся яркое пятно сбоку, это фары, по дороге на большой скорости, одна за одной: мимо пролетают три черные легковые машины. Мы успеваем заметить, что они все выглядят как в двадцатых годах прошлого века. «Студебеккеры» или «Паккарды»…
Последние слова хозяина тонут в сиплом тревожном свисте. Чайник. Андрей морщится, откладывает планшет. Выключает газовую конфорку, шуршит кофейным пакетом насыпая по две ложки в каждую чашку, потом заливает кипятком.
— Изотта-фраскини. «Антилопа Гну», — подбадривая медлительного рассказчика, комментирует гость.
— Нет-нет. Совсем не то. Подождите, Эдгар Игоревич. Там, у Ильфа с Петровым, кабриолет, а здесь январь, мороз. Не перебивайте.
— Вчера ты сам просил уточнять, если что будет непонятно…
— Хорошо, извините. Слушайте дальше, — Андрей опускается на табурет и продолжает. — И в тот момент, когда они пронеслись, мы оказываемся внутри главной машины. Здесь темно, тепло и тихо. Лиц не видно, камера где-то на уровне руля. Светится панель приборов. Дорогая отделка. Машина идёт плавно и быстро. Шофер молодой, он в военной форме. У пассажиров под полушубками тоже угадываются френчи. Все молчат. Вот тут дальше у меня написано, я буду читать.
«Один из сидящих сзади негромко, без эмоций произносит:
— За неделю, прошедшую после нашей поездки его состояние сильно ухудшилось. Что говорят врачи? Есть какие-то шансы?
— Никак нет. Улучшений не предвидится. Профессора Крамер и Кожевников… — обернувшись с переднего сиденья, виновато начинает другой.
— Это же чёрт знает, что такое, товарищи, — таким же спокойным голосом перебивает его первый. — Это — преступная халатность. А если поменять врачей?
— Никак. Это не поможет. Мозг необратимо разрушен. Говорят, даже на пару часов не смогут. А то бы, конечно, можно было…
В разговор вступает третий.
— Зря мы вообще затеяли этот его переезд в Горки, — чувствуется, что он раздражен. — Надо было ещё год назад поднимать этот вопрос на Политбюро, принимать трудное решение и… сами понимаете. Но вы же знаете, товарищи, Надежда Константиновна выступила категорически против.
— Из-за того, что вы пошли на поводу у этой истерички, — не меняя интонации, говоривший достает трубочку, в полной тишине не спеша набивает её табаком, аккуратно раскуривает и спокойно заканчивает. — Из-за того, что вы пошли на поводу у этой истерички Вождь Мировой Революции теперь воскреснет полным идиотом.
Андрей поднимает глаза на собеседника.
— Ну как?
— Пока ничего не скажу. Понятно о ком ты, но давай, что там дальше.
— Дальше опять чёрный экран. Потом сразу светло и какое-то пятно. Это лежащий человек только что открыл глаза и не может сфокусировать картинку. Мы видим то же, что и он. Наконец, пятно перед его глазами превращается в лицо. Читаю дальше.
«Совсем молодой веснушчатый паренёк в гимнастёрке склонился над лежащим и озабоченно, с тревогой вглядывается в него. Потом с облегчением произносит:
— Кажись, живой.
— Живо-ой? — радостно переспрашивает голос откуда-то сверху. — Слава тебе господи. А ну, Карякин, дай я погляжу.
Появляется другое лицо — постарше, с щегольскими усиками, серыми глазами и тонким шрамом от подбородка до уха. Сероглазый внимательно смотрит на лежащего и с радостной уверенностью подтверждает:
— Живой? Точно — живой! — И тут же смачно добавляет. — Гнида! — он широко улыбается. — Тащи его сюда, Карякин. Раз живой, значит продолжаем.
Молодой парень хватает лежащего подмышки, резко дёргает и, протащив по полу, усаживает на табурет. За столом напротив уже сидит сероглазый.
— Значитцца так, гражданин. Повторяю. Когда, где и при каких обстоятельствах вы были завербованы американской разведкой?
Арестованному с трудом удается разлепить запекшиеся губы.
— Я. Не имею. Понятия. О чём идет речь.
— Дружки твои сдали тебя, Усольцев. Кончай тут бадягу разводить. Нам всё известно, не отпирайся.
Хлопает входная дверь. Карякин и сероглазый, увидев вошедшего, дёргаются и вскакивают по стойке «смирно».
— Драв желаю, товарищ старший.
— Тише-тише, Соколов, — худощавый седой мужчина средних лет в военной форме без петлиц и шевронов машет рукой. — Без званий. Что тут у тебя? Молчит наш декабрист?
— Так точно, идёт в благородную. Не раскалывается. Но ничего, — сероглазый всем своим видом демонстрирует служебное рвение. — И не таким языки развязывали. Заговорит!
— Ты вот что, Соколов, бери своего оруженосца и шагом марш погуляйте, а мы тут пока в кабинете побеседуем.
— Так, может, товарищ командир, Карякин пусть в уголку подежурит? На случай, если вражина чего удумает.
Вошедший удивлённо поворачивается к говорящему.
— С каких пор приказы нужно дважды повторять? Выполняйте!
— Слушаюсь! — гаркает Соколов. — Карякин, за мной!
Седой усаживается за стол и углубляется в чтение протокола.
— Меня зовут Олег Викентьевич, — не поднимая головы сообщает он пару минут спустя.
— Усольцев. Александр Александрович. Военинженер второго ранга.
— Чаю изволите? — неожиданно предлагает седой.
— Нет. Благодарю покорно. Покурить бы. — Помимо воли вырывается у Усольцева. — Четвёртые сутки без табака.
Он подозревает, что правила игры стары как мир, и сейчас его мучители просто меняют тактику, играя на контрасте. Теперешний собеседник будет добр и участлив, но на деле они все заодно, — и Соколов с Карякиным и этот. Пусть так. Пусть хоть лёгкая передышка. Перекур. Усольцев достаёт папиросу из протянутой седым пачки, подкуривает от массивной настольной зажигалки с гравировкой «Debes, ergo potes» — «Должен, значит могу». От царского режима осталась, не иначе. Поменялась власть, поменялась вывеска, а вещи остались. Вместо щеголяющих армейской выправкой чиновников жандармского управления в мундирах с эполетами по коридорам теперь торопливо снуют сотрудники Наркомата внутренних дел в неприметных защитных френчах. А зажигалка на мраморной подставке как стояла на столе, так и стоит до сих пор».
— Алло, — с неудовольствием отзывается на звонок Эдгар Игоревич. — На совещании. Ну и что, что уже девятый час? Котик, занят сильно, не отвлекай. Освобожусь — наберу, — закончив разговор, он отключает звук вызова. — Продолжай, Андрей.
«Усольцев глубоко затягивается и выпускает дым. Седой откладывает протокол в сторону и внимательно разглядывает арестованного.
— А зубы целы? — вдруг интересуется он. — Целы? Это хорошо. Синяки и царапины — это пустяки. Зубы — важно.
— Кто вы? С кем имею честь…
Вместо ответа Олег Викентьевич раскрывает темно-зелёную картонную папку и достаёт тоненький, почти прозрачный, как папиросная бумага, лист с машинописным текстом.
— Подпишите.
Усольцев молча смотрит на протянутый лист.
— ПодпИшете, Александр Александрович, мы с вами поговорим, и вы поедете на месяц в Ялту или Пицунду, в один из наших спецсанаториев. Приведёте себя в порядок. Наберётесь сил. Пройдёте специальное обучение. Нам сейчас позарез нужны кадры — квалифицированные, проверенные, крепкие физически.
— Послушайте, Олег Викентьевич… Ваши архаровцы меня уже пятый день здесь держат. Пятый. Это тяжело. Хотя мне так никто и не предъявил никаких порочащих фактов. В чём меня обвиняют? Одни слова. Требуют каких-то признаний. Американский шпион. Бессмыслица. Я понимаю, что жаловаться мне некому. И из-за этих стен я ничего не смогу. В камере люди. Арестованные. Думаете, они все враги народа? Я смотрю и мне становится страшно. Не за себя. Не только за себя. Я солдат. Офицер. Принимать смерть — моя работа. Но мне страшно за то, что происходит. Я не понимаю, как? Как такое может происходить? Выколачивают показания у одних, чтобы арестовать других. И так по цепочке. Олег Викентьевич, говорю начистоту. Думаете — чай, папиросы,и я размякну? Понятие «офицерская честь» для меня не пустой звук. Я не стану участвовать в этом кошмарном спектакле. Никого оговаривать не буду.
— Всё? Вы закончили? — во время монолога Олег Викентьевич смотрел в окно и беззвучно барабанил по столу подушечками пальцев левой руки. — Александр Александрович, вы закончили? Я вас внимательно выслушал, а теперь выслушайте вы. Честь офицера и для меня значит много. И не думал агитировать вас оговаривать сослуживцев, и тем более товарищей. Не собираюсь выведывать какие-либо ваши секреты. Мне и так известно про вас всё, что необходимо. К слову, по поводу чистой совести. Папенька ваш, Александр Авдеевич, одна тыща восемьсот семьдесят четвёртого. Он ведь был не машинистом на Московско-Курской железной дороге, как вы указали в анкетных данных, а хозяином мануфактурной лавки в городе Житомире, и не умер от тифа, а в восемнадцатом году покинул Россию и в настоящее время проживает в столице бывшей Австро-Венгрии, ныне Рейхсгау, Вена по адресу Кертнерштрассе, 14 дробь 2, верно?
— Я не поддерживаю никаких… — Усольцев еще раз глубоко затягивается, гасит папиросу и смотрит седому прямо в глаза. — Он сделал свой выбор, а я свой. Я слышал, да, признаю, но ни разу с восемнадцатого с ним не связывался. Мы совершенно чужие люди теперь. Это никак на мою преданность Родине не повлияло.
— Да я это не в упрёк вам, Александр Александрович, — машет рукой Олег Викентьевич, — а, чтобы показать, что говорить мы с вами будем о вещах куда более серьёзных. Эх, если бы меня интересовал только ваш родитель, поверьте: через неделю, много через десять дней уже проводил бы вам очную ставочку в этом самом кабинете. А хвалёная венская полиция хлопала бы глазами — куда это уважаемый соседями законопослушный бюргер Usoltsev Alex Avdey вдруг подевался?
— Вас не интересуют мои сослуживцы. Вас не интересует отец. Тогда, простите, я не понимаю, о чём речь. Чем вызвано внимание вашей организации к моей скромной персоне?
Олег Викентьевич поднимает со стола папиросный листик и медленно, почти торжественно, читает.
— «Даю настоящую подписку в том, что нигде, никому и ни при каких обстоятельствах не буду сообщать какие-либо сведения, касающиеся проекта «Осирис». Мне объявлено, что любое нарушение этой подписки приравнивается к измене Родине и карается по всей строгости закона». Вот и весь текст. Ну? — он вопросительно смотрит на Усольцева. — Подписывайте, Александр Александрович, и поговорим, не пожалеете, обещаю. А коль недоверчивы и нелюбопытны, — Седой вздыхает, — знаете, Усольцев, почему зубы ваши до сих пор целы? Потому, что добросовестный товарищ Соколов получил от меня на этот счет чёткие указания. — Он неожиданно вытягивает из внутреннего кармана брегет на серебряной цепочке и щелкает крышкой. — Время вышло, Усольцев. Что выбираете?
Бесцветные глаза седого смотрят на арестованного требовательно, но в то же время равнодушно. Усольцев понимает, что в эту минуту решается его судьба. Откажи он, попробуй поиграть в героя и всё. Никто больше не будет уговаривать. Седого сменит весёлый душегуб Соколов на пару с исполнительным Карякиным. А может, кто и похуже. Только теперь следователи не будут церемониться. Три-четыре, может пять допросов «с пристрастием», выбитые зубы, сломанные пальцы, что там ещё они делают? И он подпишет. И про американскую разведку, и про товарищей по службе. Некстати вспомнился сосед по камере в тот, последний день. Сергей Леонидович, а когда-то просто Серж Барминский, знакомец Усольцева со времён гимназического детства. Встречались не единожды на состязаниях по экзотической тогда ещё английской спортивной игре FootBall. Располневший Барминский, бывший, как оказалось, следователь ОГПУ, после инспектор Наркомата водного транспорта, с трусливо-жалобной улыбочкой на пухлых губах, шептал: «Братцы, это конец. Лучше сразу со всем соглашайтесь. Если очень повезёт — лагерь. Ну а нет — просто уменьшите свои страдания». Самому Барминскому рекомендация не помогла. Конвоиры вернули его ближе к полуночи. Тусклая лампочка под потолком камеры не позволяла разглядеть, но Усольцев сразу понял, что произошло что-то нехорошее, непоправимое. Старый приятель, товарищ по несчастью, сидел на нарах, опустив голову.
— Сергей Леонидович, с тобой всё в порядке?
Вместо ответа Барминский осторожно прокашлялся. С лица на колени капнуло густым и липким.
— Сергей Леонидович! Серж! — Тот поднял голову. Пугающая глянцево-красная «начинка» напухала, грозила вывалится через два рваных отверстия на месте глаз. Усольцев почувствовал, как враз онемели ноги. И понял, что не в силах он сейчас встать и подойти к товарищу. Помочь. Чем тут поможешь? А Барминский и не звал никого. Сидел себе, покачивался взад-вперед и покашливал аккуратно. Да изредка ляпало красненьким на форменные брючки без ремня. Ремни, известное дело, забирали у всех арестованных. Чтобы не было соблазна повеситься. Сбежать, так сказать, в смерть. Чтобы избежать допросов. Через час с небольшим конвоиры вернулись и забрали Барминского. В этот раз насовсем. Время вышло, говорите? Что я выбираю? Известное дело что.
Усольцев медленно тянется к ручке и аккуратно подписывает лист. Седой поощрительно кивает.
— Отлично, товарищ. Поздравляю. Сейчас мы прервёмся. Завтра в девять встретимся в другом месте. Соколов!
Дверь открылась почти мгновенно.
— Приказываю проводить товарища Усольцева в санчасть и сдать лично дежурному врачу. Его предупредят. Да. Товарища Усольцева. Именно «товарища». Произошла ошибка. Советские органы — это прежде всего торжество справедливости.
— Не больно-то радуйся, — не глядя на Усольцева сквозь зубы цедит Соколов, пока они идут по коридору в санчасть — Я тебя насквозь вижу. Ты, Усольцев, не наш. Троцкистский выкормыш и шпион. А то, что запрятался, хорошо — это ничего. Не сейчас, значитцца в другой раз, но мы тебя достанем. Сковырнём.
— Послушайте, — не выдерживает Усольцев, — товарищ Соколов! Я что-то не пойму. Олег Викентьевич сказал — произошла ошибка.
— Бухарин тебе товарищ. Это ты начальству можешь голову задурить. А я простой мужик. У меня чуйка на людей как у охотничей борзой, понял? Ты — враг, Усольцев. Враг».
— Ну как? — Андрей вопросительно смотрит на гостя.
— Ух ты! Удивил, не скрою. Я думал опять будет что-то в стиле «Кривых историй». Твой обычный фирменный коктейль из алкоголизма с порнографией. Но, нет! Порадовал! Интересно! Совсем на тебя не похоже! — Эдгар Игоревич даже азартно хватается за чашку, но поднеся ко рту легонько морщится и ставит её на место. Он больше не напоминает усталого скептика. Чувствуется, что рассказ Андрея не на шутку захватил его. — Не знаю в какую сторону тебя понесёт. Усольцев — бывший водитель из машины Сталина? В него вселилась душа волка? Олег Викентьевич — законспирированный иностранный агент? Готов слушать дальше.
— Значит, не зря старался, — смущённо опускает голову Андрей. — Продолжаем? Тут опять дальше кусок из головы. Усольцева отводят в санчасть, и он как бы забывает о сокамерниках. Нет, неверно сказал. Не забывает, но решает пока о них не думать. Чтобы помочь, надо прежде разобраться самому, что происходит. «Этим пока и займёмся», — утешает он себя. И радость, Усольцев, помимо своего желания, чувствует радость и облегчение: лично для него всё плохое позади. Даже к Соколову он не чувствует злости, а Олег Викентьевич и того больше — теперь ему симпатичен. И не хочется думать о том, какую службу от него потребуют завтра. А пока осмотр врача. Ничего страшного, несколько ушибов и ссадин. Не калечил добросовестный Соколов. После осмотра врач отводит Усольцева в одноместную палату. Комплект формы без знаков отличия, его размер, ждёт на табурете. Рядом новенькие хромовые сапоги. Настоящая кровать, бельё. Подушка. Пахнущие стиркой наволочка и простыни. Усольцев садится на койку и прижимает наволочку к лицу. Дышит носом через наволочку. Для него это запах нормальной жизни. Запах возвращения. Потом камера отъезжает, ныряет сквозь окно, и мы видим, что в оконный проём вкручена тяжелая двойная решётка. Понимаешь? Вернулся, да не совсем.
Но на столе еще горячий обед. Настоящий кофе в стакане с подстаканником.
— Кофе. Эдгар Игоревич, вам сделать ещё? А, вы и этот не выпили. Может надо было в ковшике сварить всё-таки?
Гость демонстративно делает пару глотков из остывшей чашки.
— Андрей, откуда у него может взяться симпатия к этому седому следователю? Почему он не боится завтра?
— Я думаю, всё дело в личности седого. Понимаете, он разговаривает с Усольцевым на одном языке. Не прячется за псевдореволюционную пролетарскость. Соколов — мужик и хам, Седой — интеллигент. У Усольцева возникает надежда, что с ним можно договориться. Во враждебном пространстве появился условно «свой». Отсюда и симпатия. А по поводу завтра, — Андрей пожимает плечами, — он не то чтобы не боится. Предпочитает не думать. Это как с сокамерниками. Ещё вчера весь этот ужас и близость неминуемой смерти. Глупой к тому же. Напрасной. Не героической. Героическую он, может быть, принял бы. А тут полная безнадёга. Конец. И вдруг — рраз! — передышка. И хочется верить, что не просто передышка, что дальше всё по-другому пойдёт. Конечно, он догадывается, что завтра ничего хорошего ему не предложат. А вдруг? Пусть маленькая, повторю, но надежда.
— Не дотягивает твой Усольцев до положительного героя.
Андрей опять пожимает плечами.
— Положительный или отрицательный. Не знаю. Не супермен — это точно. Простой человек, попавший в жернова истории.
— Да уж. Твои супермены — отдельный разговор. Яша «Джекки Чан» Глухов из «Кривых историй», который ноль пять казёнки из горла выпивает и по бабам идёт гулять. По таким же дурным и пьяным, как он сам.
— Эдгар Игоревич, давайте без Яши, без баб его. Это совсем другое. Я, пока поймал настроение, хочу рассказать. А то собьюсь.
Он, значит, ужинает, потом с наслаждением растягивается на чистой кровати и спит без снов. Открывает глаза, уже светло. Громыхает замок, в камеру входят трое. Умывайтесь, брейтесь. Собирайтесь. Усольцев пытается что-то понять по выражению лиц, но бесполезно. Они безучастны. Во дворе ждет «эмка». Когда авто трогается, чекист на переднем сидении достаёт из внутреннего кармана черный лоскут. Повязка. Усольцеву завязывают глаза и он честно пытается не подглядывать. Пытается, вернее. Но сквозь щель снизу видит только края регланов и синие с малиновым кантом бриджи, заправленные в сапоги. Это сидящие слева и справа «товарищи». Усольцев скоро прекращает попытки, чтобы не вызывать лишних подозрений. Едут около часа. Внутренний двор, забор с колючей проволокой наверху, здание с часовым у дверей. Дальше у меня написано.
Андрей склоняется над экраном, но вместо того, чтобы продолжать чтение, шёпотом чертыхается. Гость с полминуты молча наблюдает, потом не выдерживает:
— Что у тебя с планшетом, Андрей? Когда ты успел его так ушатать?
— Это другой планшет, Эдгар Игоревич. Не тот, что вы дарили. Я тот Алёне отдал, — Андрей виновато улыбается. — Поменялись. Она кино на нём смотрит. Игрушки. А мне что? Только вот эту штуковину писать. Можно и на старом. Алёнином. А то что кнопка иногда заедает, так я привык.
— Отдай в ремонт или купи новый. Ты меня поражаешь своим пофигизмом. Ах, да. У тебя же вечно нет денег.
В этот момент строптивый планшет поддаётся, Андрей с облегчением прекращает неприятный разговор и продолжает чтение.
«— Усольцев и его молчаливый конвоир долго идут по коридору, поворачивают, поднимаются на два пролёта по ступеням, вновь идут, пока не упираются в дверь с аккуратной медной табличкой. На ней три слова: «СЕДОЙ Олег Викентьевич». Седой? Это, оказывается, фамилия? Ни названия управления или отдела, ни должности. И по цвету от прочих табличка отличается. Видать, недавно прикрутили. Усольцев в досаде закусывает губу — что за птица его вчерашний собеседник?
— Олег Викентьевич, Усольцев прибыл.
— Пусть заходит.
Провожатый, тот самый что одевал повязку, делает приглашающий жест и на мгновение встречается глазами с Усольцевым. «Словно наёмного убийцы взгляд, — мелькает у Усольцева в голове. — Вежливый. Почти дружелюбный. А прикажут такому — вопросов лишних не будет. Они тут вышколены. Чувствуется уровень. Это не лапотники, как Соколов да Карякин. Видно, что серьезными делами люди занимаются. И я теперь, похоже, с ними заодно».
Он переступает порог кабинета, дверь за его спиной захлопывается. Размер помещения не оставляет сомнений — Усольцева привезли к большому начальнику.
Седой легко поднимается из-за массивного стола чтобы пожать вошедшему руку. За его спиной несгораемый сейф и портрет Сталина. Справа диван чёрной кожи и дубовая вешалка, слева высокий, под потолок, забитый книгами шкаф со стеклянными дверцами. Рядом на стене политическая карта мира. Сам по себе мебельный стиль ампир, тяжеловесный, с филигранной отделкой, указывал на богатство, солидность, даже некоторую помпезность хозяев. Однако обстановки для таких габаритов комнаты явно не хватало, поэтому несмотря на роскошь отдельных элементов кабинет имел вид аскетический.
— Ну вот, теперь совсем другое дело, проходите, присаживайтесь, Александр Александрович. — Олег Викентьевич с одобрением оглядывает Усольцева. — Смотрю, побрились, форму новую примерили. Как бытовые мелочи? От службы не будут отвлекать? Дела нам с вами предстоит большие ворочать.
— Спасибо большое. Обеспечен всем необходимым. Бритва, щетка зубная, порошок. Даже про курево не забыли. Форма — как на меня шита.
Усольцев опускается на предложенный стул, Седой устраивается на соседнем. «Он не вернулся на место, во главу стола. Показывает, что разговор у нас предстоит личный. Не для протокола».
— Ваша фамилия действительно Седой? Подходит вам, — начиная разговор, Усольцев нарушает субординацию, но дружелюбие, с которым встретил его хозяин кабинета, поощряет к этому.
В ответ Олег Викентьевич улыбается и, изображая простодушие, разводит руками.
— Ну должна же быть у начальника какая-то фамилия? Чем плох вариант? Мог бы, я, конечно, назваться, к примеру, «Агафопод Единицын», но слишком броско, запоминаемо.
— Если не ошибаюсь, Олег Викентьевич, вы только что помянули один из ранних псевдонимов Чехова?
— Верно, — кивает хозяин кабинета. — Я и говорю — «запоминаемо». Видите, вы прочли и запомнили. А нам лишнее внимание ни к чему. К слову, «Седой» — тоже один из чеховских псевдонимов. Не знали? А это между тем известный факт. А вы, я смотрю, любитель словесности? Не так ли?
— Имею определённую склонность. Творчество Антона Павловича очень ценю и ставлю выше творчества Толстого и Тургенева. Очень сожалею, что он так рано ушёл из жизни. Сколько вещей ненаписанных с собою унёс. Как и Гаршин. Невосполнимая потеря для нашей литературы.
Седой не отвечает, пару минут изучающе смотрит на Усольцева, потом задаёт неожиданный вопрос
— Александр Александрович, вы в Бога веруете?
— Простите?
— В Бога. В Господа нашего Иисуса Христа. В Троицу. В Отца, Сына и Святого Духа. Во Второе Пришествие.
— Олег Викентьевич, не ожидал от вас такой вопрос услышать.
— Полноте, Александр Александрович. Сам-то, — Седой с едва-едва заметным пренебрежением кивает на портрет за спиной, — духовную семинарию окончил. А теперь коммунистическую партию — авангард всего рабочего класса возглавляет. Не будем и мы лицемерить. Так веруете?
— Олег Викентьевич, я воспитывался в атеизме. Крещён в детстве по настоянию родителей, но воспитывался в атеизме. Иисуса Христа признаю, но не как сына Божьего, а как моральный принцип, категорию духовности. Нравственный ориентир.
— Иисус — нравственный ориентир? Для строителя коммунизма? Хм. Интересно сказано. А второе пришествие?
— Склоняюсь, что это иносказательный образ, побуждающий нести полноту ответственности за совершаемое в земной жизни.
— Благодарю за искренний ответ. Надеюсь и в дальнейшем наш разговор не потеряет доверительный характер. Это в ваших интересах в первую очередь.
Седой встаёт и проходится взад-вперёд по кабинету.
— Теперь у меня к вам вопрос посерьёзнее будет. При обыске в вашей комнате в тайнике под полом обнаружены два тома «Философии общего дела» изданные Кожевниковым-Петерсоном. Сочинения Фёдорова Николая Фёдоровича. Откуда книги? Почему прятали?
— Разве это запрещённая литература?
— Отвечайте на вопрос!
— Фёдорова мне принёс один приятель. Ему грозил арест. Он так полагал. Попросил уничтожить. Но я не могу уничтожать книги. Спрятал. Приятель не ошибся. Арестовали через неделю. Его девушка, они собирались пожениться осенью, я её встретил её случайно в Сокольниках, сказала, что ей повезло, что не успели зарегистрировать отношения. Приятель, как почувствовал слежку, сразу порвал с ней. Ему дали десять лет без права переписки. Что это за приговор такой? Почему без права переписки? Я слышал, это означает расстрел?
— Скорее всего — да, — совершенно спокойным, будничным тоном отвечает Седой.
— Но почему? Простой инженер… Разве он был врагом народа?
— Если его совесть была чиста, почему занервничал? С невестой порвал, книги побежал прятать. А вы как считаете? Он был врагом народа? — Усольцев чувствует, как ему трудно, буквально физически тяжело выдерживать взгляд Седого.
— Я… Я не знаю.
— Заметьте, я не спрашиваю имени вашего приятеля. Мне не нужно, чтобы вы «предавали» даже память своих знакомых. И, подождите, Александр Александрович, не спешите печалиться о его судьбе. Думаю, после нашего разговора вы посмотрите на произошедшее другими глазами. Книги-то прочли?
— Да. Прочёл.
— И какое вы сложили мнение о прочитанном?
— Я полагаю, что мысли, изложенные в «Философии общего дела» не враждебны идее построения мирового коммунистического общества. Фёдоров, с его задачей обязательного воскрешения всех поколений ушедших предков, представляется мне наивным мечтателем. Чудаковатым стариком, полным доброты. Безвредным.
Усольцев смотрит на Седого ожидая реакции. Тот усмехается.
— Безвредным стариком-мечтателем? Вот как? Ничего-то вы не поняли, Александр Александрович. А если я скажу вам, что Фёдор Николаевич Фёдоров — величайший ум прошлого века, философ, по глубине своих прозрений превосходящий всех этих ваших Гегелей, Кантов, Ницше и Шопенгауэров вместе взятых?»
— Понимаешь, Эдгар Игоревич, — выпрыгивает из текста Андрей, — тут, как в киносценарии, очень важно подчеркнуть, что Седой произносит свои фразы как драматический артист высокого уровня. Держит паузу, интонирует. Одним словом, ведёт себя так, словно он на сцене.
— Хм, автор Яши Глухова знает про Фёдорова? Андрей, ты ли это? Кто бы мог подумать.
— Ну как — «знаю»? Слышал, что жил раньше чувак такой. Читал. Эдгар, я продолжу. Седой, значит, говорит:
«— Да-да, Усольцев, Фёдоров — учёный-теоретик. У него не было помощников. он не имел научной базы для исследований. Тем не менее, в одиночку, единственно силой своего разума, заложил фундамент того философско-религиозного течения, что когда-нибудь полностью изменит картину мира, — Седой делает театральную паузу и спустя минуту продолжает более спокойным тоном. — Справедливости ради, Фёдоров сам до конца не осознавал практических результатов, которые последуют из его учения. Да и мы поначалу тоже. Главная заслуга Фёдора Николаевича в том, что он первый в мире сумел сформулировать единственную, как ему казалось, задачу человечества — собрать во вселенной «правильные атомы» и оживить все поколения ушедших предков. Не только сумел разглядеть, но и обосновал реальность разрешения этой задачи. Для нас — создателей проекта «Осирис» — книга Фёдорова — это Новый Завет, Тора, Упанишады. Первая Книга.
Седой садится в свое кресло и щёлкает кнопкой настольной лампы. Полутёмный до этой минуты кабинет заливает жёлтый электрический свет.
— «Собрать во Вселенной «правильные атомы» и оживить все поколения ушедших предков». Хм, вот это полёт мысли, вот это цель! Глыба! Гигант! — Он поворачивает голову к Усольцеву. — Представьте теперь себе мое удивление, когда я прочёл в рапорте о вашем аресте про «Философию общего дела» в тайном схроне под половицею! Кто вы? Посвящённый? Быть такого не может. Интуит, прошедший великий путь вслепую? Признаюсь, я склонялся к такому варианту. Но теперь, когда узнал вас ближе, понимаю, что ошибся.
Ошибся? Усольцев поднимает лицо. Ему на мгновение кажется, что Седой отказался от планов касательно его особы и впереди ждёт возвращение на нары, страх, побои, протоколы с американской разведкой. Седой в нём ошибся. Потерять надежду болезненно. Но потерять, обрести и потом потерять вновь больнее в разы.
Эмоции, захлестнувшие Усольцева, не ускользают от внимания Седого. Губы Олега Викентьевича трогает самодовольная ухмылка: Усольцев на крючке.
— Однако, Александр Александрович, я склонен доверять таким вот подсказкам Провидения. В существовании некоей высшей силы вы, надеюсь, не сомневаетесь? Зачем-то ведь подсунула она вам книги? А? Потому и принимаю я решение, что в проекте вы будете участвовать осознанно, не как большинство, что или не знает вовсе, или узнает за несколько минут до смерти. У вас впереди роскошь участия в «Осирисе» с открытыми глазами. Гордитесь, это мало кому доступно, — Седой встал, прошёлся по кабинету и остановился у окна. — Ну вот мы с вами и подходим к сути нашего разговора. Немного истории. Еще двадцать с небольшим лет назад, сразу после Октябрьской революции и примерно до середины двадцатого второго года все мы верили и надеялись, что революционное движение рабочих масс вот-вот охватит все страны и континенты. Но…— Седой делает паузу, — буржуазия тоже читала Карла Маркса. И сделала правильные выводы из прочитанного. Верхушка пролетариата, самая квалифицированная его часть была практически куплена. Улучшением условий труда, увеличением оплаты и так далее. Это стало дурным примером для средней, сомневающейся части пролетариата. Таким образом, мы могли с уверенностью опираться только на… голодранцев. А это ненадёжные воины. Идея мировой революции в том виде, в каком её описал бородатый немецкий мечтатель, умерла. Это неоспоримый факт. Казалось бы — тупик. В руководстве партии зрел раскол. Сторонники Троцкого продолжали настаивать на безоглядной экспансии революционных идей. Их оппоненты, к числу которых принадлежал и я, считали, что необходима некоторая коррекция целей, а значит и стратегии исходя из сложившейся ситуации. Мы с Микояном тогда очень серьезно штудировали «Философию общего дела». Брезжила перед нами какая-то идея, перспектива. Но не могли нащупать. Как в потёмках бродили. Труд Фёдорова, подкреплённый практическими исследованиями некоторых ученых, в частности Бехтерева, Кожевникова, Россолимо, Крамера подтолкнул к выводу, что с большой долей вероятности всеобщее воскрешение не только реально, но и неизбежно. При определённых обстоятельствах. Фокус в том, Александр Александрович, что нельзя собрать «правильные атомы» и воскресить одного. Атомы вообще не нужно собирать. Воскреснут сразу и все. Это и есть второе пришествие.
Седой замолкает и опять пристально смотрит на Усольцева.
— Вас, вероятно, удивляет, что я так подробно ввожу вас в курс дела. Тем более, что вы и так изъявили желание участвовать. Я прочёл это на вашем лице. Дело в том, что нас, кураторов проекта, — всего четверо. И у каждого около десятка «посвящённых» помощников. Таким образом, людей, владеющих информацией о проекте «Осирис», сейчас около пяти десятков на всю страну. Вдумайтесь — огромная страна и всего полсотни избранных. Я, видите ли, очень щепетильно отношусь к подбору «посвящённых» помощников. Вот Лаврентий Павлович, например, считает, что лучший аргумент для хорошего исполнительного подчинённого — страх. Я не согласен. Считаю, что на любой страх всегда можно найти другой — ещё более беспощадный и опустошающий. Совсем другое дело — идея. «Не за страх, а за совесть» — помните, как родители наши говорили? Под моим руководством единомышленники, принявшие те же цели и идеалы что и я. Потому и не жалею своё время, что вижу потенциал, и надеюсь, что вы станете одним из нас. А потом посмотрим, у кого команда лучше, у меня или у Берии.
На чём мы остановились? А! Второе пришествие. И воскреснут люди именно в том состоянии, в котором находились в момент ухода из жизни. От трёх-пяти минут до получаса максимум. Это гипотеза Крамера-Абрикосова. Вы ничего об этом не слышали, естественно. Примите на веру, у вас, да и у меня, нет достаточных специальных знаний, чтобы понять это в деталях. Так что принимаем и пропускаем. Случилась в середине двадцатых одна досадная и почти роковая ошибка. Не ошибка даже, Крамер просто совсем чуть-чуть опоздал с выводами из своих исследований. И мы, к сожалению, не успели. Потеря, масштаб которой даже трудно оценить. И самое обидное — уже ничего нельзя исправить, — Седой закусил губу и помолчал. — Работы Крамера-Абрикосова, да и все другие в этом направлении, конечно, засекретили. Но на этом всё. Даже исследования к концу двадцать четвёртого года свернули, так как товарищи по партии не видели практического смысла тратить на это государственные средства.
Только в двадцать девятом году, вскоре после гибели командира высшего начсостава РККА Яна Фабрициуса, вы помните, самолёт возле Сочи упал в море, состоялся один важный разговор. Зашёл как-то ко мне Председатель ОГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский. Он тоже имел доступ к работам Крамера».
— Тут должен быть флешбэк. Это ведь сценарий. Нуар практически. А что за нуар без флешбека? Представь, Эдгар Игоревич, кабинет Седого.
«МЕНЖИНСКИЙ. Яков Станиславович — свободен? Разговор серьёзный есть. Потолковать надо.
СЕДОЙ. Конечно, Вячеслав Рудольфович, проходи. Для тебя всегда время есть».
— Постой. Какой «Яков Станиславович»? Твоего Седого же Олег Викентьевич зовут.
— Я потом объясню. Олег Викентьевич — это он теперь. В тридцать девятом. А десять лет назад его звали по-другому. У Седого реальный прототип есть. Я продолжу?
— Через минуту, — Эдгар Игоревич предостерегающе поднимает руку. — Один звонок. Алло. Котик? Я не приеду сегодня. А вот так. Планы поменялись. У меня сейчас важная встреча. Что? Значит, съешь сама. Всё. Больше не могу разговаривать. Продолжай, Андрюша.
— Ага. Флешбек. Менжинский зашёл к нашему герою.
Окончание следует…