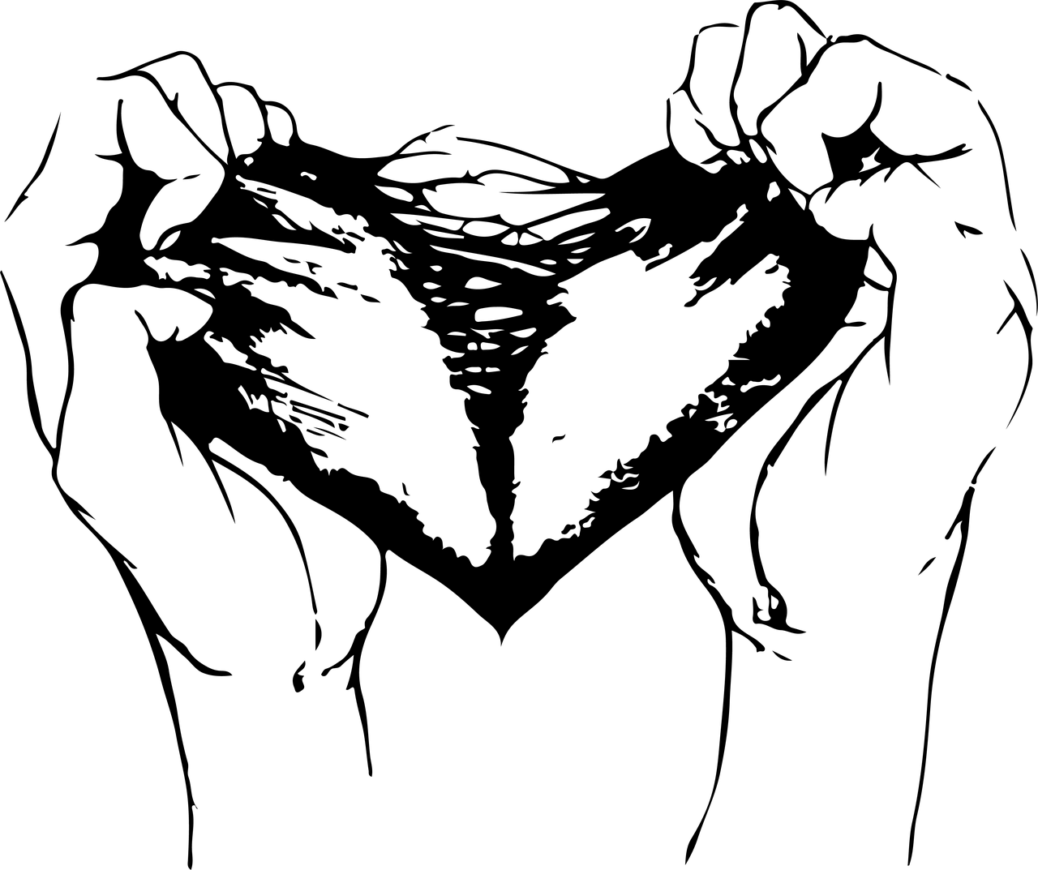Карта
Я стала глупой в шестом классе. Глупому трудно писать, проще картинками. Я бы хотела, чтобы дальше вы представили себе рисунок, как у Экзюпери в «Маленьком принце». Я изобразила бы в простейшей графической программе прямоугольник, расчертила бы его за неделю на клеточки – старательно и вручную, чтобы зарядить этот текст, как маг – воду. Потом расставила бы по краям листа буквенные обозначения сторон света – С.Ю.З.В. – а по нижней горизонтали растянула бы длинного змееподобного монстра, вьющегося запутанным толстым телефонным проводом, с кривыми птичьими лапами и мордой удивленной черепахи. Глаза у него улыбались бы и при этом как будто бы были полны внезапного страдания, как у ребенка, севшего на собственной же рукой, подложенную учителю кнопку. Так выглядела моя первая и последняя в жизни авторская карта.
Чтобы вспомнить, где ты потерял вещь, надо немного походить по тем местам, где ты ее видел последний раз. Вот и похожу. Во втором классе я еще точно была умной, потому что любила троечника со светлыми волосами, блестящими, как у дорогой барби из «Детского мира». Еще он был лучшим в параллели по физре. А вот уже в седьмом классе, когда в наш школьный лагерь должен был приехать мальчик из соседней частной школы, и классная руководительница назвала его «живой бог, только дурачок», мы с Катей Ереминой хором ответили: «Так не бывает». В смысле только умный мужчина может быть живым богом.
Всё, тогда я уже была дура. Время, когда от мужчины я ждала только физического совершенства для дополнения моего, интеллектуального и духовного, прошло.
Моя точка невозврата хорошо просматривается на Google Maps. Одним зябким октябрьским утром на уроке географии Рифат Раисович предложил нам составить карту-схему спортивной площадки. Мы вывалились во двор школы № 1234 на Большой Молчановке, потолкались по пути, как-то разместились на этой площадке втридцатиром с планшетами и карандашами. Я отметила север, юг, запад и восток на листке в клеточку. Вспомнила определение слова «азимут» и как его искать. Дальше надо было искать. Но я просто ходила из угла в угол, наматывала круги и квадраты по белой разметке. Я пыталась что-то сделать, я как будто поворачивала невидимый ключ в двери, но он безнадежно заел, и надо было пробовать что-то другое – другой ключ, другую замочную скважину, другой дом, но я все давила, давила, чувствовала, как мокро под пальцами, как это безнадежно, но не могла ничего с собой поделать. Как многотонный каток, размазывающий то жаром, то холодом, звучал писклявый, мультипликационный голос Степы Осокина: «Я сделал, Рифат Раисович! Что дальше? Рифат Раисович, я сделал! А дальше что?».
Листок со сторонами света остался пустым. Учитель не заметил, что я его не сдала. А в конце учебного дня с нашим классом занималась школьный психолог. Мы должны были рисовать фантастическое животное, и этот рисунок якобы точно раскрывал наше внутреннее состояние. Я изобразила на том самом листе со сторонами света вьющегося, как толстый провод, монстра с кривыми птичьими лапами и мордой удивленно-страдающей черепахи. Он почти скреб по нижней горизонтали листа, задевая букву «Ю». Психолог объясняла, что место расположения рисунка – это наша самооценка. Чем выше – тем выше. У Кати Ереминой, чудо-юдо жар-птица билась о бумажный потолок северного края листа.
Степа Осокин, которого я любила с того дня и до третьего курса университета, сейчас кандидат географических наук, один из ведущих молодых специалистов страны в области геоинформатики, каратист с поясом и капитан собственной яхты. А я со своим монстром на пустой карте, осталась в эпохе до географических открытий, когда мир населяли трубадуры и чудовища.
Чужой
Он сидел под надписью «Места для пассажиров с детьми, инвалидов и лиц пожилого возраста». Детей не помню, но вот пожилые – сгорбленные, уставшие, потерявшие весь энтузиазм еще в мае дачники с сумками и рюкзаками, занимали всю его лавку, как специально подобранная массовка.
Он выделялся. Не только среди своих случайных попутчиков, но и среди таких как он – мне приходилось иногда встречать. Волосы у него были интеллигентно русые. Рельефные, спортивные ноги обтягивали чулки, причем не в крупную сетку, а в мелкую, благодаря чему он выглядел именно стройным, а не блядью. Высокие сапоги не блестели, как диско-шар, стразами, они приглушенно переливались кожей влажной змеи.
Я старалась, не пялясь, просто пройти мимо. Не получилось. Я посмотрела на него. Он легко улыбнулся социальной улыбкой, а потом – улыбнулся мне. Задержал взгляд на моей груди. И хотя я догадывалась, что, скорее всего, его улыбка и эта остановка вызваны тем, что на моей майке изображен самый известный в мире любитель макияжа среди мужчин Мэрилин Мэнсон, что-то во мне отвергало это объяснение.
Я ускорила шаг, чувствуя, как жарко лицу. Долго и неловко шарила в сумке, искала новый номер « Rolling Stone». Развернулась к «Не прислоняться» и несколько минут смотрела на страницу своего журнала, не понимая ни слова. Когда я поняла глаза, то увидела в черном отражении стекла, что он стоит прямо за моей спиной. Высокий. Уверенный и по-тёплому снисходительный.
Улыбается. Мне.
Сердце не билось, а будто крутилось на месте, как один смешной щенок, которого я встретила недалеко от своего дачного дома далеким подростковым летом. Зверёк то вылезал из-под забора и с писком бежал ко мне, то резко разворачивался и трусил обратно. Ему так хотелось поиграть. Он так боялся. Вот и я.
«Повернись».
«Ну, повернись же к нему».
«Ну, хотя бы улыбнись».
У меня не получилось. Слишком красивый. Слишком чужой. С другой планеты. Тот самый, кто мне так нужен. Он, конечно, мне не по карману. Откуда у второкурсницы деньги на такую женщину?
На остановке «Баррикадная» я выскочила из вагона. Он – за мной. Я шла по залу, не думая ни о чем, но метров через десять поняла, что мне в другую сторону. Резко поменяла направление движения. Он – нет. Я не заметила даже легкого поворота головы в мою сторону. Просто немного замедлил шаг. Когда я решилась всё-таки обернуться, его уже не было.
Под шубой
Есть у меня трек, называется «Насрать». Это единственный мой трек, посвященный женщине.
Когда тебе на всё насрать,
насрать, начхать и наплевать
расслабься и получай заслуженное удовольствие
Дальше соляга на электрухе.
когда тебя всё заебло
вокруг тебя одно мудло
пусть тебе будет как в первом куплете
И снова соло, а потом предполагался речитатив без ритма и музыки. Долго не мог его сочинить. Шарил, шарил между ушами – ничего. Тогда я отправил запись Ирише и объяснил, что мне нужно. Она прислала вариант буквально через пять минут.
«Я проснулся и понял, что все в этом мире – всё его блядство, богатство, любовь и ненависть, все его химические реакции, физические законы, все его звуки – от запила Хэндрикса до пердежа уволенного из сельского клуба гармониста – всё мне решительно и бесповоротно однохуйственно. И я свободен».
Никаких правок я не делал. Сразу включил микрофон в домашней студии, нажал на «рекорд». Всё записалось отлично с первого раза. Я пометил себе, что надо добавить Иришу в договор с лейбаком. Подумал о том, как продюсер Жорик рассчитает её ставку и как сделать так, чтобы ставка была повыше, не в копейках, а в рублях. Ириша без работы, пишет в стол, в столе нет денег.
Можно сказать Жорику, что Ириша с филфака МГУ, не хрен собачий. Что один знаменитый в «совке» художник хотел писать с Ириши валькирию, но напугал её старческим стояком, и она сбежала. Что она много и дорого ест, потом зачем-то худеет, и тоже дорого, живет с родителями в дореволюционном доме на Поварской, у неё породистый вислоухий кот и старая шуба, но зато из норки.
Она была в этой шубе, когда лет десять назад мы, еще студенты, пошли на «Аватар», мёрзли в очереди, и я гладил её по меху, гладил и не мог остановиться. В этой шубе она почти десять лет бегает на концерты одного несвежего, но когда-то смазливого поэта, а после кидает мне эсэмэс: «Приезжай. Вино. Сыр. Шоколадка с перцем. Пожалуйста». Приезжал. И приезжаю. Под эту шубу она, хохоча от стыда и адреналина, прятала замороженные морковные котлеты, которые я как-то учил её воровать в гастрономе недалеко от Камергерского. Одну котлету я достал у неё из трусов в какой-то арке, расписанной граффити и похабщиной, и втихаря нюхал по пути к метро.
Вряд ли Жорик во всё это врубится. Но договор будет. Наш первый с Иришей общий документ. Мне тут же захотелось написать ей прикол на тему общего документа, но я вовремя забил.
Как-то раз, вытирая свои белые следы с её белой спины, я, идиот, спросил, представляла ли она нас когда-нибудь мужем и женой.
– Честно?..
Она медленно перевернулась на спину, и я снова увидел её тяжелые груди бабы с маленькими сосками девушки, между которыми я обожаю её, обожаю до монотонного писка искусственного спутника, который только и могу различить в космосе своего сознания, когда кончаю так, будто душа катапультируется с Земли.
– …Нет, никогда.
– А я представлял.
Идиот. Идиот идиотский. И – насрать.
Тогда я этот трек, посвященный женщине, и придумал.
Невеста
…И вот на пыльной заасфальтированной сковороде остановки, раскаляющейся все сильнее под прямыми лучами июльского солнца, где приходится вот уже полчаса с лишним ждать автобус, среди бесстрастных, бесцветных, влажных лиц вдруг возникает твоё – черноглазое, смуглое, фаюмское, живое поле битвы радостной тревоги с гневной, отчаянной мольбой – и я пугаюсь своей улыбки, невольно вырвавшегося смешка счастья; того, что ты и улыбку, и смешок, конечно, тут же замечаешь и начинаешь прорываться ко мне сквозь неплотную, податливую толпу, беззвучно ругаясь одними губами, а рукой пытаясь попасть в нагрудный карман своей неуместной белой рубашки с влажными подмышками, но получается у тебя не слишком ловко, и ты что-то роняешь; расталкивая людей вокруг, смущая их, падаешь на колени вслед за едва различимым желтым блеском металла, в голос кричишь о черте, боге, повторяешь «кольцо! кольцо!», зовёшь меня по имени. Я на мгновение закрываю глаза крепко-накрепко, чтобы две слезы (одна печальная, другая радостная) стекли по щекам и, не добежав до подбородка, высохли вместе с памятью о моем имени, о твоем имени, о нашей с тобой кроткой, но такой полновесной истории, завершающейся сейчас на высокой, надорванной ноте, самой высокой из тех, что я, наверное, могла бы услышать на этом берегу реки моей жизни, но ты должен, должен найти в себе силы понять: на том, другом берегу, куда идет автобус, шумно выдыхающий рядом, на расстоянии нескольких шагов от меня как раз в тот момент, когда ты опустил тяжелые, теплые ладони мне на плечи и обнял своим запахом – запрещенный прием, ты не должен был приносить его сюда с собой – на том, другом берегу, куда плывет этот автобус с табличкой за лобовым стеклом «Покровский (женский) Хотьков монастырь» меня ждет мой жених.
Не сегодня
Он стоял ровно, как хорист, глядел прямо, не пытался вопреки обыкновению спорить или хотя бы для приличия ухмыляться, понимая, что историчка вообще-то права, что он «болван полный», раз сам вызвался ответить на контрольном уроке, не отличая притом вестготов от остготов, но что он мог поделать с собственной правой рукой, которая, не дойдя миллиметра до цели, вдруг взмыла вверх прямо-таки в нацистском приветствии – холодная, подрагивающая от предвкушения, страха, неизвестно откуда пришедших сил, но так и не познавшая, какова всё же на ощупь толстая, пшенично-золотая, пахнущая, наверное, так, как пахнет жеребенок, извалявшийся в летних ромашках, коса Оли Литневской.