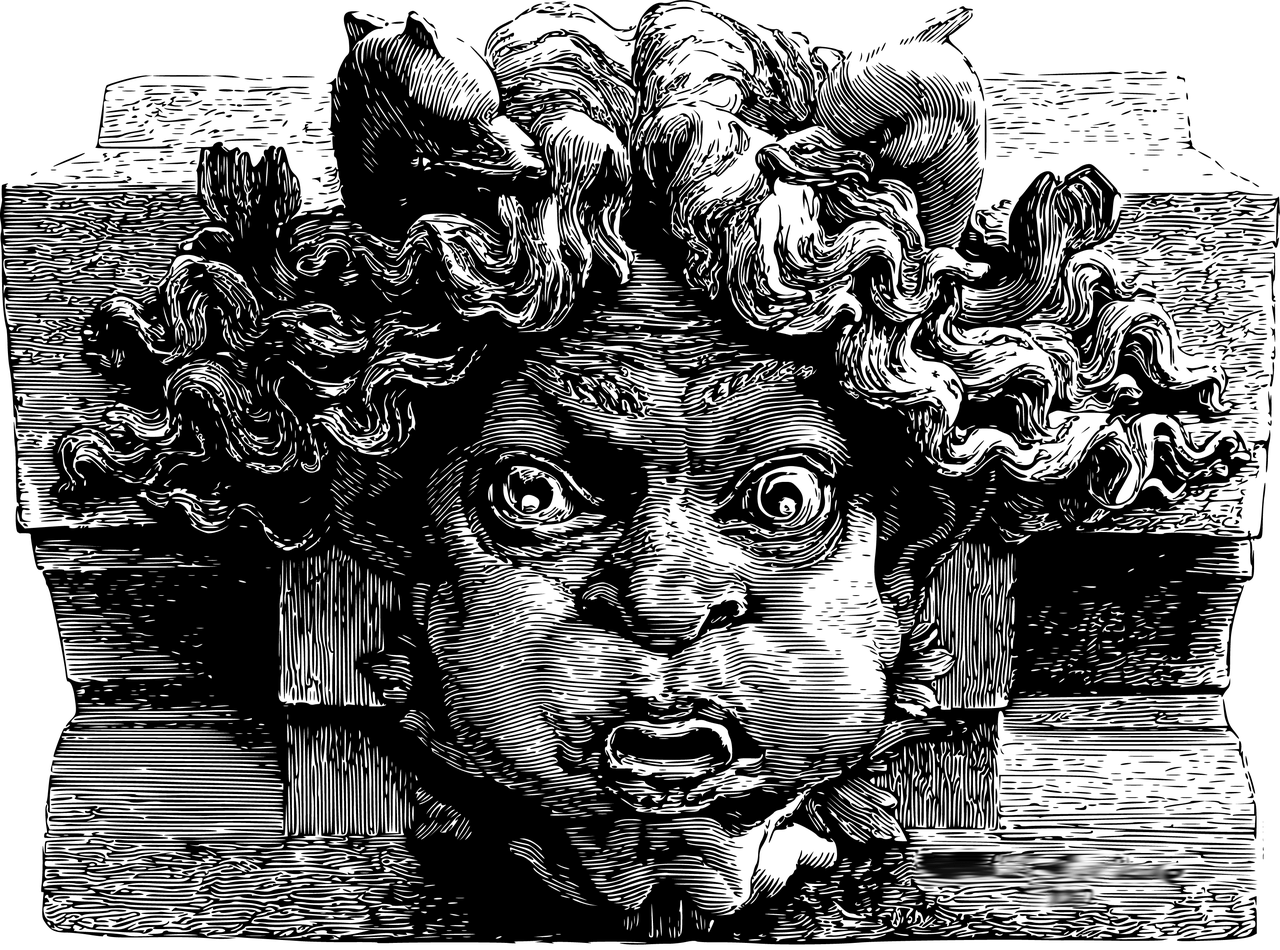Зинаида Аркадьевна ехала к морю. Вырвалась из суматохи дождливой столицы, решила, не удалось в Москве лето, наверстает в Крыму. Не испугали полтора суток в тесном плацкарте, с плачущими детьми, с мужиками, ныряющими за пивом на станциях, с крикливыми их жёнами, запахом пота и вареных яиц. Зинаида присела за узким столиком, выложила «Крестьянку», оттёрла окно от вагонной пыли — мелькали вдали перелески, деревянные домики станций, змеились дороги. Уткнув подбородок в ладони, она вспоминала проводы в армию сына, вспоминала будто случилось вчера, а ведь минуло восемь долгих месяцев. Всего лишь восемь, или уже…
Юрочка, несмотря на крепость тела и рост, казался ей для армии хрупким. слабым как молодое деревце, простоявшее без воды в жаркое лето, Представлялось — в армии служат хмурые, агрессивные молодые люди, из тех, кто собирается на стадионах, яростно скандирует речевки и устраивает бои с болельщиками других команд. В её глазах, именно такие, подготовленные самой жизнью к тяготам и лишениям, легко превращаются в солдат, готовых идти и на смерть, если надо. Но не её Юрочка, нет…
Она с рождения орошала его любовью. Могла любоваться часами пока спал: глазки, ямочки на щечках, высокий, интеллектуальный лобик в отца, смешные розовые пальчики зацелованные до единого. Её мальчик.
Беспрестанно поправляла на прогулках чепчик, трогала одеяло, проверяла не мокры ли пеленки. Просыпалась ночью от малейшего стука и шороха — вдруг сынуля обделался, или лежит, раскрыв ротик в немом крике, голодный, от мысли потела и бежала к кроватке. Играя, зацеловывала малыша точно кошечку, и муж Петр обиженно предлагал себя на подмену.
Годы бежали, коляску сменили на велосипед, и как-то она заметила, что сын сторонится поцелуев, её объятий, уклоняется, не подставляет щеку. Она удивилась, поубавила чувств, поостыла, и решила поразмышлять об отмене сыновьей любви попозже, нахлынули иные дела да заботы, умерла мать, пришлось перевезла к себе отца-ветерана, муж Петя получил назначение.
А Юра рос и взрослел.
Она смотрела на его тонкое тело и радовалась, фактурой в нее, вырастит стройным, подтянутым, и высоким, в их роду не встречалось широких в кости. Наблюдала, как ловко водит пальцем по букварю выкрикивая буквы, и улыбалась — становится смышленым, в отца, тот писал кандидатскую.
Юрины узкие ладони, Зинаида считала пригодными лишь для смычка, которого он никогда не коснулся. Скрипка, её любимая, в черном пыльном футляре, так и осталась лежать нетронутой, сиротой, позабытой на гардеробе. Зина корила себя за слабость. Это она не настояла в нужный момент на музыке, послушалась мужа, и сын выбрал дорогу мимо музыкальной школы, в которую ходила в детстве Зиночка-резиночка.
Она помнила свое фиаско. Столько лет прошло, но чуточку больно. На выпускном не сыграла заученный вальс, за день до, обожгла кипятком руку. Всю ночь проплакала над свидетельством, в графе специнструмент красовалась жирная – 4.
— Столько усилий, труда, денег в конце концов, вес пошло прахом, — раздражённо выговаривала ей мать, и Зина, понурив голову, стыдливо прижимала перебинтованную ладонь к бедру, — уж лучше бы ноги обварила, дура.
Спустя годы, качая сынулю в кроватки, она вспоминала упреки матери, отчуждение отца, смахивала слезу и мечтала, вот вырастит её мальчик и отомстит. Отомстит миру, за её неуспехи и страхи, нелюбовь родителей, занятых лишь собой в послевоенное время, отсутствие сказок на ночь и запахов детства, за переживания в школе, за слёзы в ночную подушку — он, её мальчик, станет счастливее, сильнее и удачливей. Окончит с отличием основную и музыкальную школу и поступит в Консерваторию, или в музыкально-педагогический Ипполитова, а если совсем не судьба, она пристроит его в институт, где подруга трудится в бухгалтерии. Армии, в радужном списке «будущих побед сына» не значилось, и она не могла объяснить почему, не знала. Да и какая разница, всё случилось не так, как мечталось.
Когда Юре исполнилось четыре, она узнала, что музыканта в семье не предвидится. Петя достал скрипку, обтер тщательно тряпочкой и выложил на кровать сына на подносе, как главное блюдо музыкального будущего. Юра, недолго думая скинул скрипку на пол, получил от отца подзатыльник, разревелся и залез под кровать, Зина, из-за несдержанности мужа впала в истерику, неделю не разговаривали, спали под разными одеялами, что в её размышлениях практически предвещало развод.
В следующее воскресенье Петя предложил перемирие и выложил на стол перепечатанную на машинке статью неизвестного ей профессора из Бостона, некого Питера Грея детского психолога. Петя расправил страницы, заварил самолично душистого цикория и закурил, выжидая в окошко. Статья называлась «Свобода учится». Спустя полчаса, дочитав и выслушав несокрушимые аргументы мужа, что писал кандидатскую и знал всё на свете, она согласилась заключить «Пакт о свободе ребёнка». Отныне, Юрочке дозволялось выбирать увлечения самостоятельно, по велению души, и они дали себе слово поддерживать их, при условии нормальности. Зина запомнила тот период, как время социального эксперимента.
На деле они присматривались. Незаметно и строго. Она поименно знала всех малышей в песочнице детского сада, с кем Юрочка бок о бок лепил замки и прокладывал туннели в мокром песке, знала их мамаш, отцов и места их работы. Позже в школе, выпросила у классной, биографии мальчиков, переписала с Юра дружит, гуляет. Вела список книг, что читал сын, и тайком подкладывала рекомендованные мужем.
Юрочка рос любознательным, отчасти ленивым, не выделялся особенным — что немного огорчало её, и не любил футбол — что огорчало мужа, не мыслящего жизнь без острых баталий в телевизоре.
В девять лет сынуля принял неожиданное, во всяком случае для нее, решение заняться спортом, и попросил мать купить шахматы.
— Господи, — повздыхал Петя, — кто назвал шахматы спортом, смешно, ну ей богу.
Муж в свои тридцать восемь выглядел подтянутым, по утрам тренировал тело гимнастикой, отжимался от пола и легко тягал на балконе пудовую гирю. К тому времени Петя получил позицию зам. кафедры Приборостроения, ходил в институт два километра пешком для поддержания формы. и не пропускал ни единого футбольного матча. До замужества Зина не знала слова — фанат. Хорошо, что диванный, смеялся муж.
В шахматах, в семье никто не разбирался и понятия не имел как играть, кроме деда. Вот только в последние годы, ветеран-инвалид и бывший разведчик признавал исключительно домино, шлепал костяшками в сквере по соседству с домом, запивал сию благость пивом и слал подальше всех подряд, в том числе и шахматы и внучка.
Но вот больше всего, Зинаида расстроилась, когда в восьмом классе сын порвал дружбу с фигурами и пестрой доской. Буркнул с тоской, — Надоело. — и похоронил в ящике стола значок и грамоту перворазрядника завоёванные в нелёгком турнире Дома культуры газеты «Правда».
А она сдуру ляпнула Валентине Сергеевне, главе профсоюза фабрики, что Юрочка в этом месяце играет на мастера спорта. Они сидели на очередном заседании, в президиуме, справа от главы восседала Зинаида Аркадьевна. И кто её за язык тянул. Да и никто, и сказала она нарочно, замечала за собой невинные желания похвастать, не собой, так сынулей.
Юра поостыл и к учебе, ходил задумчивый, молчаливый, точно объединился со страной хоронившей второго Генсека. Сидевший вечерами за шахматной доской, всегда доступный для разговора, а главное — глаза, сын заимел привычку припозднятся, и это её беспокоило. Приходил затемно. От него пахло острым мальчишечьим потом, хотя она пыталась унюхать табак. В отдельные дни обнаруживала на балконе постиранную белую рубаху и широченные, грубо пошитые штаны, не могла взять в толк — к чему это, и всякий раз забывала спросить — зачем.
И вот однажды утром, собираясь на работу она заскочила на кухню, и уткнулась в сынулю, что вытянул на подоконник свою тощую ногу. Зинаида удивилась, как Юра закрыв глаза дышал, медленно выпуская и втягивая воздух. На столе стучал метроном, покупала его к музыкальной школе, ну вот и сгодился. Сын вытягивался спиной вдоль ноги, ладонями пытался схватиться за пятку. На висках собирались блестящие капельки пота, знакомый ей запах юного тела разбегался по кухни волнами. Она приоткрыла окошко, Юра глаза. Улыбнулся, тряхнул пшеничной копной,
— Классно да, это растяжка ма,
Так в восемьдесят четвёртом, Зинаида, посмотревшая к тому времени фильм «Пираты XX века», познакомилась с частицей японской культуры в собственном доме. Но открытие её не порадовало, даже наоборот — заботило. Бить человека, на фоне воспоминаний о материнские подзатыльники, она считала неприемлемым, а уж тем более ногами.
— Юра заболел этой дрянью, — втолковывала Зинаида мужу, раздраженно гремя на кухне посудой, — карате это, под запретом, не дай бог, мальчик попадет под статью, ты забыл в какой стране мы живём?
Она читала в газетах громкие отчёты про комсомольские рейды по клубам, подвалам, про спортсменов, уголовные дела и длинные сроки. Читала, и боялась за Юрочку.
***
Стучал и бился на стыках поезд, скользило в окно заходящее солнце, с тамбура потянуло сигаретным дымком. Мелькнул образ мужа, что умчался на лето в Сибирь, строить коровники со студентами добровольцами. Тогда на кухне, Петя тянул жигулёвское и кивал, соглашаясь безоговорочно с её словами, соглашался впервые за долгие годы. Она ведь поверила, пока муж не предложил поговорить с ректором, насчет зала для тренировок, мол пустует подвал, оборудованный, теплый, ненужный, и туда не нагрянут, то ж институт. Зина его едва не ударила, полотенцем хлестнула шутейно, ну не дурак. Петя, в очередной раз напомнил ей о «Пакте о свободе ребёнка».
В новое увлеченье Юра нырнул с головой, точно в омут; пропадал на тренировках по четыре раза в неделю, сидел в шпагате в свободные вечера, иногда с книгой или просто закрыв глаза. Листал потрепанные, вручную сшитые, затасканные брошюрки с картинками, где худенькие человечки задирали ноги. Дышал по утрам, и Зинаида, прислушивалась из-за двери к шумным выдохам, вздыхала сама и расстраивалась, десятый класс, экзамены на носу. Юрочка, будто смеясь, открывал ногой на кухне шкафчики, и просился её — не морочится. А она все равно беспокоилась, несмотря на пакты и договоренности. Она видела, сын вытянулся, стал практически вровень с отцом, под метр восемьдесят, приучил жилистое тело к мягкости и подвижности, в походке проявились элементы незнакомого танца. Голос обрёл уверенность, резкость.
Сын превращался в мужчину. Все чаще, по-домашнему телефону женские голоса просили позвать к трубке её мальчика. Зинаида и представить не могла, что кто-то посмеет посягнуть на её любовь, не терпела такие звонки, бывало обманывала, краснела и молча клала трубку обратно, Но больше терзало проклятое карате. Она ещё надеялась, что вмешается институт; эти сессии, пары, рефераты, зачёты, там не будет время для «токсичного увлечения».
Ярлык, Зина окончательно навесила на карате в день, когда Юрочка приполз с вдрызг разбитым лицом. Она его не узнала, только бежевую куртку признала, в разводах от крови, в грязи и масляных пятнах. Не было носа, раздулись и потерялись губы, лицо как большая кровавая маска. Зина не плакала, визжала пожарной сиреной, перепугав мужа Петю. Деда, едва не хватил сердечный приступ.
Больше месяца Юрочка валялся в больнице, челюсть собрали, губы сшили, рёбра срослись слава богу. Нападавших, сколько она не ругалась со следователями — не нашли, да видимо не искали. Потом, когда у Юрочки поджило лицо и смог говорить, прошептал по секрету, что бился против кавказцев, но, не хватило силенок и опыта реального боя.
Экзамены, выпускной, последний звонок, события летели стремительно быстро, Зинаида не успевала опомниться от волнительных моментов, так переживала за Юру, как в воздухе запахло армией. Это дед ей сказал, что пора учить внука мотать портянки, пронеслась будто дробь барабанов в её голове и протрубили побудку горнисты. Она вспомнила, в институте мужа присутствовала военная кафедра, подумала, Юра проскочит как мышь, только отнести документы. Сын – отца, должен послушать.
— Нет, ты че мам, — Юра заартачился, замотал головой. Они присели на кухне, в полном составе, дед закурил вонючую «Астру», хотя Зинаида противилась. Петя тянул цикорий, его приготовила своим мальчикам Зина и запах ячменя с топленым молоком смешивался с табаком и действовал на неё успокаивающе.
— Мам, пап, ну какой из меня инженер, тем более радио. Ну вот ни разу не мое. И потом, я не пойму, что за новые правила, за меня решать. Я что думаете, сам никуда не могу поступить?
— Мы подсказываем, дурачок, — Зинаида едва сдерживала слезы, других вариантов с военной кафедрой не имелось, да и поступать самостоятельно — сынуля не собирался, откупится — не приходило и в голову, Она предложила ему, выбери хотя бы — Педагогический. Старая, еще со школы подруга, дослужилась до глав буха, что могло стать мостком в университет.
— Учителем, ма, не хочу! Если только тренером. Это запросто. Ну а потом, чтобы вы были в курсе, я уже все решил.
К большому удивлению Зинаиды, мальчик устроился плотником на машиностроительный завод, колотил какие деревянные ящики, и ждал, она не могла поверить словам — повестку из военкомата. Осенний призыв был не за горами, и Юра готовился, мотался вечерами на турник, учился делать подъем-переворотом и выход силой, подтягивался и качал пресс. Убеждённо готовился к армии.
Зинаида Аркадьевна, набравшая к тому времени профсоюзный вес на родном комбинате, вышла через десяток знакомых, на некого полковника Гурьева, но разговор не сложился. Полковник не распознал туманной просьбы оставить призывника в пределах Московской области, зато предложил сказочный вариант — либо служим, либо нет, и он мог посодействовать увернутся.
Она голосовала за, Юрочка уперся задрав ногу на стену, — Ма, даже не думай, не служить стыдно. Пятно на всю жизнь, друзья засмеют, девчонки сторонится будут, ты что— я же здоровый, готов к труду и обороне.
— Боже ж ты мой, какие глупости — вздыхала тогда Зинаида, — а я, совсем не готова к армии.
Отговорить не смогла. Молодёжь отплясывала под переливы Лозы и Преснякова почти до утра, стол с изрытыми словно грядки салатами, шеренги пустых бутылок, две гитары разбили. В общем, ничего необычного. Военкомат, автобус, Юрино худое лицо, пшеничная шевелюра в открытом окне, — Пока ма, я быстро, всего-то два года, не успеешь и оглянуться.
***
Поезд замедлил ход, скрежетал, тормозя возле станции, маленькой деревянный вокзал, щербатый асфальт перрона. Зинаиде захотелось пройтись, посмотреть и послушать местных, их быструю, торопливую речь, три торговки бежали к поезду. Вагон тряхнуло, проводница открыла дверь и волнами жаркого воздуха, пахнущий луговыми травами ворвался в сознание — Крым. Ворвался и остался до конца отпуска. Мягкий, сонливый, ласкающий слух причудливыми своими названиями — Ливадия, Мисхор, Алупка.
Южный берег ей снился ночами, манил рассветами и наполнял радостью. Она бывала на море, обожала Ялту, Ботсад, и всегда уезжая, скучала. Мысли о Крыме роились с весны мотыльками. Она закрывала в кровати глаза, представляла, как раскинет полотенце на горячих камнях, как будет натирать кремом от солнца свой греческий нос доставшийся в наследство от бабки и узкие скулы. Как накатывает волна омывая стройное тело, набегает на грудь, и завитые с вечера чёрные кудри размокают и липнут к щеке.
Лето выдалось дождливое, прохладное, и к июлю она решилась. Уговорила соседку присмотреть за семидесятилетним отцом, заняла денег и купила билет на ближайший поезд, благо соседка работала в кассе.
Вокзал в Симферополе встретил гомонящей толпой. Запах пота мешался с мазутом, цветочными ароматами и возгласами заросших щетиной таксистов. Вот он юг безмятежный, в запахах, в звуках радости. Солнце изливалось на белую башню вокзала и часы высвечивали двенадцать. Зинаиду захватило, зажало толпой и возбужденную понесло в потоке, сквозь полукруглые вокзальные арки, туда — где красно-белый автобус глотал пассажиров на Ялту.
С полнолицей, круглой словно тумба цыганкой, Зинаида столкнулась на выходе. И стиснула на груди сумку, вцепилась интуитивно в чемодан. Всё представлялось обычным — толпа, таксисты, жара и запах. Цыгане встречались не часто.
— Торопишь девонька, — старуха в платье до пят расшитом синими птицами, повела крючковатым носом, впилась в лицо цепким взглядом, чисто ведьма. — Не спеши, разговор имею к тебе.
— Нет-нет, простите, автобус ждёт, некогда мне, — забормотала Зинаида, не в страхе, в недоумении, что за внимание к ней, почему? Вокруг десятки таких же, торопливых, спешащих, предвкушающих радость. Да и вообще, знала и слышала она про цыган, как оставляют туристов с пустыми карманами.
Старуха подхватила Зинаиду под локоток бесцеремонно и даже жёстко, повела плавно в сторону, и та поддалась, почувствовав слабость в ногах, лёгкую дрожь. Опомнилась и дёрнула локоть. Остановилась, стараясь не смотреть на цыганку.
— Что вы делаете. Пустите.
— Зачем боишься, я не кусаюсь. Про сына, отца, расскажу. Правду — которая будет. Поведаю и иди себе с миром.
— Мне не надо, чесно слово, спасибо.
Зинаида отшагнула, перехватила чемодан потной ладонью, кинула глазом — нет ли рядом милиции.
— Не суетись девонька. Рано спасибо, душу к скорби пора готовить. Так что, послушай.
— Господи, — задохнулась от подступающего возмущения Зина, вспотела от страха спина, потекло струйкой вниз, где противно намокла юбка, — Зачем вы меня пугаете?
И она нашла слова этой неприятной старухе, настроилась толкнуть на язык язвительное, но злость вдруг сошла. Готовиться к скорби. Юра, армия и беда — соединилось в единое страшное и понеслось в голове кругами. Черными словно сажа, Зинаида зажмурилась, хмарь согнала, осмелела. Подумала, вот в жизни в приметы не верила, ни в чёрта, ни в бога, как говорится, но сейчас… Эх, Юрочка, армия, и служит ведь черти где, на окраине мира. Дед больной. И хотя помнила Зинаида наказ матери мужа из глухой и далекой глубинки, гадание то великий грех, да проповеди седой Изергиль, так прозвала свекровь, ей без надобности. Она и сама с усами. Зинаида подернула плечиком,
— Ну и что там, говорите уже.
— За знание заплатить надо, порядок таков. Сколько не жалко красавица?
У Зинаиды имелись три рубля на автобус, крупные купюры припрятала. Нащупала смятую трёшку в замшевой сумке. медленно потащила трёшку из красной замшевой сумочки.
— Хватит?
— Достаточно, девонька, более чем.
Купюра упорхнула в бездонных складках цыганских юбок.
— Дай ручку, да не бойся, что ты трясёшься.
Зина подрагивала от волнения, возможно от страха, и писать хотелось, и туалет далеко, и жарко. Старуха провела по её ладони шершавыми пальцами, будто наждак прошелся.
— Честно скажу девонька, радость жизни твоей одним днём омрачится. Потеряешь близкого человека. Не вижу — как зовут, но потеря близко, в этом году. Вот, гляди— две линии крестом сошлись, знак верный, к печали. До зимы всё случится. Причину не знаю, но связана с грузином.
Не углядела Зинаида линий, охнула от единственной мысли, да никак дед помрёт, ему уж за семьдесят далеко. Что же теперь, готовить место на кладбище. Мужа и Юрочку, Зинаида огородила от размышлений высоченной стеной, их не присутствовало в сознании в эту секунду, а отец, ну что же, насмотрелся уже на солнце.
— Хотя бы в чем причина, можете объяснить. Или нужна доплата.
Цыганка прикрыла большие глаза как у филина, качнула серьгой, зашептала.
— Причины не знаю, на все воля свыше. Вижу связана с неким грузином. Человек или имя — всё смутно, не разобрать.
— Господи, да что за грузин, может врач какой, фельдшер?
— Не знаю девонька, не пытай, что увидела — подала. В остальном проживёшь до глубокой старости.
***
Роту подняли в ружье ночью, а Юрке Милованову снился залитый огнями Казанский вокзал. Медленно подползли гремя сцепкой вагоны. Проводницы в дверях улыбались, готовились принять пассажиров. Мать в красном платье, подаёт ему курицу завёрнутую в фольгу, ещё горячую и пахнущую безумно. Надо же — мать…Он надеялся видеть Ольгу, худую одноклассницу с распущенными до плеч волосами. Она приходила на проводы, и они танцевали, курили, и на балконе вроде бы целовались.
Мать взволнованно говорит, но Юрка слышит лишь громкий рык офицера, что бежит вдоль вагонов и машет фуражкой.
— Рота, подъём. В ружье!
Кальсоны, не просохшие портянки, сапоги отдающие гуталином, Юрка нашёл на ощупь, почти в темноте, потому что, свет ещё не врубили. А может, опять электричество кончилось, что в Ереване плевое дело, отключали почти ежедневно. Ремень, шапка, шинель. В казарме воняет взопревшими молодыми телами. Воняет до рези в глазах, до спазмов, но Юрка почти привык. Сопливится нос, второй день и без остановки. Так что. бегом в оружейную. это нашёл на ощупь,
Бегом в оружейную. Сослуживцы сопят, толкаются и ворчат под нос недовольно, не нравится скакать посреди ночи, бросив сны и тёплую койку. В оружейке хватают жилеты, каски водружаются на вихрасто-лысые головы
— Сегодня в меню – дубинки, — весело кричит старшина армянин, от него несет перегаром. Хмурые лица в ответ улыбаются, дубинки знак добрый — не на стрельбище, не будет забега по каменистым горным дорогам.
В кузове зеленые бушлаты сморило. Попадали друг дружке на плечи. На кочках бились телами и касками о тугой и мокрый брезент. Бился и Юрка не открывая глаз. Куда в ночь помчались, зачем, не известно. Ему вспомнились отрывки из письма матери, размазанная по листу скука.
«Здравствуй, Юра. Как здоровье (плюс двадцать излишних вопросов). Мы скучаем, я отдыхала в Крыму, целых две недели на море, так красиво. (пахнуло будто йодом). Отец как обычно в Сибири, а деда положили в больницу. (доскакался старый по паркам). Неспокойно на душе, тра-та-та (меланхолии на пол-листа) береги себя, ты один у нас (знакомая с детства песня, без припева и второго куплета). Остерегайся грузин, тра-та-та (половина замарана чёрным) обходи стороной.
Ждём, целуем»
В каждое письме написанное под копирку, штук десять похожих писем валяется в тумбочке. Или он слишком придирчив… Другим вообще ничего не пишут. Яшке из Армавира, ни одного конверта, ни одного перевода. Хаким из Ташкента выходит курить разглядев в окне почтальона. Нет, облизнул губу Юрка, все хорошо у него, даже перевод получил от отца, десять рублей за полгода… Жаль, вот Ольга, не отвечает, три письма исчеркал, всё впустую. Он вспомнил её жадные, влажные губы, волною накрыла грусть, знать не судьба. Напридумывал себе жаркие поцелуи. Забыли и все тут. Он сплюнул на пол и поискал сигареты, спать уже не хотелось.
За мать Юрка порадовался, сгоняла на море, классно. Про деда прочёл с легкой грустью, юркий старикан, любознательный, книжки про шпионов листает. Они не дружили и не ругались. Дед признавал исключительно приятелей по домино, таких же ветеранов- пенсионеров-алкоголиков. А вот про грузина не понял, почему обходить, зачем? Грузин в части не было, от слова —совсем, зато таджиков хоть отбавляй.
В Армению Милованов загремел на пересыльном пункте в Балашихе. Как не старался он понравиться рослому капитану из Риги, на границу Юрку не взяли. Жаль, но не садится же перед ними в шпагат, не крутить уширо-мавашу* в вертикальном прыжке. Сказали, слабое зрение, что правда — то правда. Подвернулся картавый дядька в мятом сером костюме, заросший щетиной и похожий на недобитого басмача из кино. По-свойски рассказал о тёплой, далёкой республике; об истекающих сладостью абрикосах и персиках размером с кулак – произрастающих в садах воинской части; о бассейне двадцать пять метров, в котором летними днями солдаты нежатся дважды в день; о подсобном хозяйстве с курами и поросями; яйки-млеко-мясцо, все на стол брату-воину.
Соблазнял, как дешевых девиц перед дискотекой, слушайте мол, там вот-вот загремит музыка и начнутся танцы, но есть дела интереснее. Искушал, облизывая сухие губы, отрыгивая борщом и, естественно, перегаром. Сука.
После трёх суток в душном, заполненном табачном дымом и вонючими новобранцами одуревшими от безделья, Юрка понял, что надо было слушать отца и подать в институт документы, и провались пропадом это забавное приключение — армия.
Картавый дядька собрал вагон молодёжи, злобные сержанты-срочники дежурили в тамбурах не позволяя «зелёным юнцам» высунуть носу на остановках.
Лояльно дядька относился лишь к одному купе, где на второй полке дремал Юрка. На узловых станциях, Шебутной дядька, оказавшийся прапорщиком, тарился тёплой водкой, наливал по пять капель пацанам в узком кругу, прижимал палец к губам, мол — молчок, не болтать. Они кивали и пили морщась, закусывали печеньем и варёной картошкой, купленной через окно у бабок. Слушали байки прапора о белой горе Арарат, где затерялся ковчег того самого Ноя, укрывшего тварей по паре. Когда рассказчик уставал, травили анекдоты, пели под гитару, отпивались чайком.
Так Юрка высадился в Ереване; пыль, жара, раскаленный плац и пересохший бассейн, злые выкрики из окна серой кирпичной казармы – вешайтесь духи.
Юрке повезло, отпахал полгода в школе сержантов. Офицер с карантина молодняка, подглядел, как Юрка без слов и прелюдий уложил на асфальт двух полезших в драку узбеков. Так рядовой Милованов получил первый выговор и уехал в Тбилиси. Отбегал сполна по горным ущельям. Вернулся возмужавшим, с обветренным лицом, с тремя лычками на погонах. Сержант Милованов, сдал экзамены на отлично.
Абрикосов в части под Ереваном не было и в помине, стояла непривычная жара, за лето так и не запустили бассейн. Юрку зачислили в роту спецназа. Звучало красиво, жилось тяжело. Роту гоняли на полигон, где они червями вгрызались в каменистую землю. Учили махать дубинкой, стрелять навскидку в условиях плохой видимости, строиться черепахой выставив наружу пластиковые щиты. Про любимое карате Юрка вспоминал в свободное время, вскинутая к перекладине нога вызывала дикое уважение у бойцов. Чтобы тело не забыло растяжку, на дежурствах дремал в шпагате. Старослужащие назвали его — Пират, однажды проболтался про фильм, с которого прилип к карате. Юрке кличка не нравилась, предпочитал порядок в голове и делах, а пират ассоциировался с хаосом и развалом, но ругаться с сослуживцами не хотелось, привык, пусть языком чешут, раз нравится.
По субботам роту возили на стадион, выстраивали в шеренгу за металлические ограждения, откуда они улыбались болельщикам. Это были хорошие времена, наполненные дружелюбием и интересом. Охраняли аэропорт, спали на полосатых больничных матрасах и пялились в окна пересчитывая самолёты. На День милиции отшагивали на параде, чиркая сапогами небо. В общем, служба текла в обычном ритме, пока не включалась сирена. И тогда — рота в ружье!
***
Машину подкидывало на кочках и выспаться, конечно не удалось. В темноте вкатились в ворота со звездой, колючая проволока в три ряда закручивалась по столбам, топорщились вышки с часовыми.
Зона — выдохнули в кузове страхом, и машина встала. На зону попали впервые, до того обходилось. Зарево пожара всколыхнуло полотно ночи, высветило строения, фигурки людей и крики. Вдали надрывно выли собаки. Запах гари будто тряпки горели, забивал нос. Остальное Юрка запомнил туманно, расплывчато. Построение и дрожь в теле, как перед дракой, слабость в ногах и холод. Ватные лица, раздача щитов, страх доводящий до желудочных спазмов. Ветер сносил крик офицеров и этот серый, вонючий дым. По рядам прокатилось — бунт.
Плотным строем вскинув щиты, вползли они за колючку. На площади перед длинным зданием горы поломанной мебели, впритык здоровенные бочки, горят тряпичные матрасы, это от них едкий дым. Чёрная масса шевелится в свете прожекторов.
Кирпичи и камни обрушились на щиты зеленых бушлатов, прокатились по каскам и разом свалились двое, завыли растирая на лицах кровь. Невезуха. Стоящие рядом орали от злобы, рычал и Юрка, правда, скорее от страха, припомнилась давняя встреча с похожей дикой толпой. Небо рыгнуло раскатами грома, то ли поддерживая восставших, то ли предупреждая солдат.
Последнее, что помнил Юрка, как колотил мужика в чёрной робе. Дубиной, остервенело, что отваливалась рука. Мокрое залило Юрке щеку, а может, начался дождь. Взъерошенный лейтенант оттащил его в сторону.
Небо выворачивало мокрым, Юрку склизкой вонючей кашицей с ужина. Тот мужик в черной робе, прижимал к сломанному носу ладонь и хрипел,
— Убью падла, запомни.
Выплёвывал кровь с крошкой зубов.
Спустя неделю, в субботу, когда и забыли о происшествии, зализали и залечили раны, запили чифирём в каптёрке первобытный страх и растерянность, и служба пошла своим чередом, когда поглазели киношку и видели двенадцатый сон, вновь заорала сирена. По казарме шарахался мат.
— Охренели, снова в ночь.
Одевались сноровисто, быстро. Поднаторели. Тянули на бегу гимнастёрки на худые тела. Под окном с откинутыми бортами пыхтели грузовики. В оружейке сноровисто выкидывали автоматы. Не повезло, вздыхали бритые головы. Теперь вручили патроны, что явилось сюрпризом, обычно боеприпасы получали исключительно перед стрельбами. Когда раздали черные пламегасители, что прикручивались к стволу автомата, стало понятно — патроны те, холостые.
Конверт, дневальный сунул Милованову на построении, вложил незаметно в руку. Смотреть было некогда, с подъёма Юрка чувствовал слабость, тремор в ладонях и шумело в башке будто с похмелья, еле в кузов забрался, в груди тяжело не вздохнуть. Приболел, не иначе. Привалился к скрипучему борту, зажал коленями автомат и замер. Лезла под шинель свежесть ночи, невнятно переговаривались сослуживцы, а Юрке казалось это дед ворчит в дальней комнате, с телевизором спорит. И придёт сейчас мать с работы, пожарит на ужин котлет, отварит картошки что начистил в белую кастрюлю отец. Они сядут за узкий стол, выпьют по рюмке, закурит дед разгоняя по кухне дым. И так отчётливо запахло «Астрой», что Юрка открыл глаза. Сосед кинул за борт окурок. В ночи петляло шоссе и гудел, забираясь на холм грузовик.
***
Весь день Зинаида Аркадьевна ходила сама не своя. С утра в окно стукнула птица. Зинаида подскочила, лоб покрылся испариной, а ворона махнула крылом, пересела на крышу подстанции, посмотрела на окно подозрительно строго.
По всему — нехороший знак. От матери Зина слышала птица к смерти стучит. Бог ты мой. Заполонил голову образ седой цыганки, зашептал её вкрадчивый голос; «потеряешь близкого человека, вижу — с грузином связано».
Мысли вразнос понеслись — не собрать, то на Юрку прыгают, то на деда. Зинаида взвесила за и против, и решила — страшнее армия, сын сердцу ближе. Засобиралась в аэропорт. Бросила чемодан на пол, выгребала все подряд из гардероба. В голове сложилось решение —первым рейсом в Ереван, отложить невозможно.
Муж Петя остановил, с ума сходишь с цыганкой своей, не пугай парня, и людей не смеши. Зинаида не успокоилась, не одно так другое проверить, чует сердце — его не обманешь, что-то не так, что –то грядет, что-то нехорошее на горизонте.
Помчалась к отцу в больницу. С трудом запустили в неприемное время, договариваться Зинаида умела. Выведала у сестрички, что буквально вчера сменился лечащий врач, и оперировать назначили Джапаридзе, хороший хирург, опытный.
Сердце ухнуло, вот тебе и цыганские пророчества, одно к одному, и грузин и отец в одном месте. Надо что-то делать, раз знак свыше дан, исправить, предупредить беду. Дождалась, когда Джапаридзе с кабинета вышел, брови что ветви ели, высокий, кучерявый, лет чуть за тридцать. По коридору прошёл, глазом сверкнул, она опомнилась, догнала хирурга на выходе, дверь перекрыла как амбразуру,
— Не дайте отцу умереть Резо Рожденович. В седьмой палате лежит — Милованов Василий. Бывший разведчик, ветеран-алкоголик. Читала, вы назначены оперировать.
И пока тот удивлённо искал глазами дежурную, чтоб отвести в сторону тревожную гражданку с растрёпанными волосами, Зинаида паучихой вцепилась ему в локоть,
прошептала в отчаянии, — А если умрёт он доктор, то я за себя не ручаюсь.
Петр курил за углом, когда крики услышал. Вовремя подоспел, и дежурная успокоительного принесла.
Дома Зинаида прилегла. В окне тянулся отблеск луны, она прикрыла глаза и представляла, как Юра вернётся со службы. Засвистит поутру трель звонка, она, взъерошенная со сна, в халате, в шлепках на босу ногу распахнёт дверь, а там он. Загоревший под жгучим армянским солнцем, вытянулся, огрубел, возмужал. Вот будет радости, дом полный гостей, до утра разговоров и под гитару песен. Всё, как два года назад. Будто и не было переживаний, страхов, и того безумного предсказания.
Не спалось. Она отдёрнула штору, показалось, вот же в кустах —очертание цыганки, пятится толстым задом, подглядывает старая ведьма. Всмотрелась — да нет, то ветер играет с шиповником. Зинаида зачем-то перекрестилась, вспомнила, как свекровь Изергиль учила крестится справа — налево, три пальчика вместе, от беды да от сглаза.
Присев за посменный стол, Зина достала конверт, тетрадку в которой чиркала письма. Не полетела, так напишу, отправляю завтра авиапочтой, у Юрочки спрошу ответ телеграммой.
Решение показалось разумным. Но тревога царапала сердце и слёзы капали, капали и размыли бумагу, Зинаида начинала писать два раза и бросила, не смогла. Всё машет и машет цыганка платком в голове. Тьфу ты, ведьма, уйди, не желаю.
Зина прилегла. Не спалось. Ворочалась и уснула ближе к утру.
***
Спецназ разгрузился в лесу. Сосны и сосенки, мохнатые ели и темень. Юрка отсидел ногу, колола будто иглами изнутри. Взмыленный лейтенант посчитал бойцов. Подошёл мрачный прапорщик-розыскник, запахнутый в кожу куртки. Попросил не шуметь, не курить, не ругаться. Сбиваясь и чуть картавя, объяснил ситуацию. Юрка сразу признал в нём смешливого дядьку с поезда. Как же меняют людей обстоятельства.
— Вы работали на зоне неделю назад? Так вот, там — ЧП, побег из лазарета, убили конвоира и врача. Бегунков трое. Одного застрелили, двоих предположительно видели здесь, в лесопарке Джервеж. Идём цепью, смотреть в оба, держаться на расстоянии видимости.
В свете фонарика им показали фото. Юрка узнал одного; скуластое лицо, мрачный взгляд исподлобья, волосы залипли к узкому лбу. Это его Юрка колотил по лицу на зоне, похож. Белобрысый.
Второй, лысый толстяк имел колоритную рожу, увидишь — не ошибёшься.
Розыскник добавил пару неприятных деталей.
— Они вооружены, забрали табельный пистолет конвоира.
Новость привела солдат в состояние крайней тревоги.
— Товарищ лейтенант, а мы с холостыми? —спросил в недоумении Юрка, — Это как?
— Штык-ножи пристегните, — усмехнулся прапорщик, достал пистолет из наплечной кобуры, — Держитесь плотнее, вас много. Херачте холостыми если что, услышим, мы рядом.
— С холостыми на боевой пистолет, весёлое дело, — бурчали солдаты. Мат плыл в шёпоте выдохов.
— Разговоры отставить, — зашипел лейтенант, его тоже дернули из теплой кровати, — вы спецназ или кто. Пристегнуть штыки, дослать патрон в патронник, поставить на предохранитель. Выполнять! Растянуться в шеренгу!
— Так кто с оружием, товарищ лейтенант? — спросили из строя.
— Скорее всего, Лазоян, белобрысый. Но, может и Котов, что на грушу похож, — сказал чуть спокойнее лейтенант, — Неизвестно. Давай пошевеливайся,
***
Телефон в коридоре зазвонил поутру. Зинаида открыла глаза и почувствовала, что сейчас вот вспотела, волосы прилипли к подушке. На будильнике семь, пять минут. Муж брился в ванной, не слышал раздражающего звонка телефона. Это она уловила, слишком отчётливо услыхала, чтобы встать тело. Лежала, смотрела в молочный потолок в разводах и думала, вот хорошо бы его покрасить. А телефон всё звонил. И вот тогда, Зинаида почувствовала, как захолодели ноги и нету сил встать. Вот она беда-весточка, прилетела звонком, Зина вдруг поразилась, к чему телефон поставили, всю жизнь без него — как спокойно. Юра, бывало до ночи во дворе и не думаешь о нём; как он, где он и с кем.. Порезался, разбил нос, подрался, испугал одноклассницу, разбил окно, курил тайком или матом ругался, пописал в кустах, гонялся за кошкой, огрызнулся соседям — всё узнаешь постфактум, вот дело сделано – извольте наказать сорванца. Вот Петя муж, по деревням весям пол-лета мотается, пилит, строгает, валит, обтесывает, таскает, ломает — так и не одной мысли нет, чёрной, злокачественной. А тут ждёшь и ждёшь, будто специально, вот сейчас зазвонит и ты возьмёшь трубку, а там хмурый голос безразлично спросит, — Милованова Зинаида Аркадьевна?
А ты в ответ, — Да, слушаю, что-то случилось?
А голос продолжит, — Милованов Юрий Петрович, кем вам приходится?
Или, — это из 15-й городской больницы, вам необходимо срочно приехать.
Н.е.т. Она так не хочет. Не хочет этих вопросов. И не возьмет трубку.
Телефон не смолкал, Зинаиду трясло как при гриппе, когда на градуснике за сорок. Мужу надо орать, пусть ответит, он выдюжит, он мужик, он сильнее.
Только и на крик нету сил. Беда…
***
Деревья спрятались в темноте, разбегались в стороны мокрые тропки и пропадали. Безлюдно в парке, тревожно и холодно. Бойцы растянулись, шли цепью, почти что на ощупь.
Уфу — Уфу.
Вспорхнула тень над деревьями.
— Бля, —присели солдаты от страха, по цепи прокатилось эхо, — Что это было, сова?
Кусты били влагой по сапогам, ветки трещали, под ногами пожухлые листья, желто- зеленые словно ковёр, из-под ёлок клубился туманом ужас. Фонарики им не дали, дежурный видать в суматохе забыл. Непроглядная тьма, луна схоронилась в тучи.
— Кого здесь искать, — щурился Юрка, всматриваясь в темноту. — не видно ни чёрта.
Со зрением у него проблемы, видел действительно не ахти, особенно в темноте. В пять лет ещё, ударился головой, навернулся с трёхколёсного велосипеда. Затылком, больно до жути. Заблевал гостиную, мать всполошилась, потащила в больницу.
«Зрительная зона повреждена, с возрастом возможны ухудшения» — констатировал врач. С годами Юрка привык щуриться и очки не носил, мать ругалась, что не долечили в больнице.
Они шли втроём, все-таки веселей, так и просил лейтенант. Курить хотелось до дрожи, но приказ мать его, нельзя так нельзя. У Юрки портянка замялась, натёрла большой палец и он прихрамывал, поджимая палец и думал только о нём. И, не заметил тень, шагнувшую из-за дерева.
— Ну-ка, бросили пукалки, живо, — тихо сказала фигура, в ладони зажала тёмное, а может и пистолет, не видно ж ни черта.
Зеленые бушлаты съёжились, точно воздух из тела спустили, только Юрка дёрнул к плечу автомат. Подумал, крутануть бы вертушку на голос, сходу в ухо, да железо мешало. Да и темно. Щёлкнул предохранителем вниз.
— Сам бросай, что там в руке.
Бам, в темноте вспыхнула искра, словно чиркнули зажигалкой, и Юрке вдруг показалось, что это игра. Время сместилось, и они с одноклассниками на рыбалке, под Воронежем, ездили как-то, на летних каникулах. Славное время, в лесу было также темно и чуть зябко. Они набрали хвороста и брели меж деревьев, почти что на ощупь, задевая головами ветки и пялясь во мрак. И кто-то из них чиркал спичкой, пытаясь найти тропу. Вот сейчас из-за дерева выйдет мать, с фонарём, посветит в лица и скажет,
— Шагайте за мной, хватит скакать по кустам — уха стынет.
И поведёт на край озера, где костер отражается в мелкой волне и окрестные берега хоронятся в тумане. А на огне булькает в почерневшей кастрюле уха. От костра жарко, лопаются пересохшие сучья огненными брызгами в стороны и ребята загораживают ладонями лица. Бам, и искра летит ему в грудь, тыкается, брызжет горячим, смешно. Пацаны рядом стихли, смотрят завороженно. Да это он сам выбивает искры. У него в руках палка, он бьёт по костру и искры взлетают, рассыпаются в небе фонтаном.
Но вот бах, вторая попадает в него, обжигает, а вот и ещё, уже больно, и он опускает руку.
Вот и мать не смеётся, её глаза заполнили слёзы, рот закрыла ладонью, тычет рукой на озеро. На дальнем берегу он видит старуху, та машет черным платком. Нет. Это птица. Спугнули и она взлетает в тёмное небо.
Какой насыщенный вечер, тело устало, он закрывает глаза, так хочется спать. Подгибаются ноги и он валится в сено, пахнет пожухлой травой и ёлкой, кто-то услужливо накинул соломы, может отец, что привык жить по спартанский в своих стройотрядах. Так спокойно, и хочется спать.
***
Лес гудел голосами, криками офицеров, поляны и ложбины прочёсывали пятна встревоженных фонарей. Человека в арестантской робе гнали к просеке, там выставили засаду, гнали с глубокой злобой, льющейся через край. Одна мысль свербела охотникам головы — живым зверя не брать.
После охоты солдатики долго сидели, не замечая несмелое солнце над лесом. Закуривали, ломая дрожащими пальцами спички. Смотрели в траву и молчали. И кляли холостые патроны и отсутствие фонарей, и шепотом командиров. И снова курили, мрачно сплёвывая на мокрую от ночного пота траву. Молоденький лейтенант молчал, сделав вид, что не слышит.
Подсел прапорщик, зачиркал ручкой в блокноте, задумчиво бормотал о своём:
— «Грузин» лучше мёртвый чем сука живой, подельника надо искать.
— Лазоян и «грузин»? — вскинул голову лейтенант, — по виду же русский, а фамилия, так вообще армянская.
— Родился в Тбилиси, отсюда и кличка, а Лазоян по отцу, был такой вор в законе, — прапорщик хлопнул по плечу лейтенанта. — Солдат твой — боец, не испугался, и если б не холостые. Короче, таких уже не рожают.
Возле Юрки, в свете автомобильных фар копошились люди в халатах. Щуплый врач устало поднялся с колен, стряхнул прилипшие листья.
— Задышал ваш солдат. Жить будет. Одна пуля навылет, остальные достанем в госпитале, кровь главное остановили.
Врач кивнул санитарам.
— Грузим и вперёд. Вот, кстати, выпало у него из кармана.
Он протянул лейтенанту листок измазанный кровью. Офицер взял осторожно, и стараясь не испачкаться, развернул.
— Телеграмма. Ничего себе, дед у него вчера умер. Вот дела, получается дед забрал смерть у внука.
Врач пожал плечами, — Похоже на то, три пули и живой — это редкость.
***
Зинаиде Аркадьевне приснился Юрочка, сердце сжалось от радости. В отглаженной, ладно сидящей форме он шёл торопливо к подъезду, узкие губы в улыбке, светлый ершик волос из-под малинового берета. Посмотрел на окно и махнул рукой, и она будто услышала голос.
— Мамуля, ты жди, я скоро.
*Примечания:
* уширо-мавашу — удар ногами в системе карате киокушинкай, выполняемый в прыжке и с разворотом корпуса с самого начала подпрыгивания.