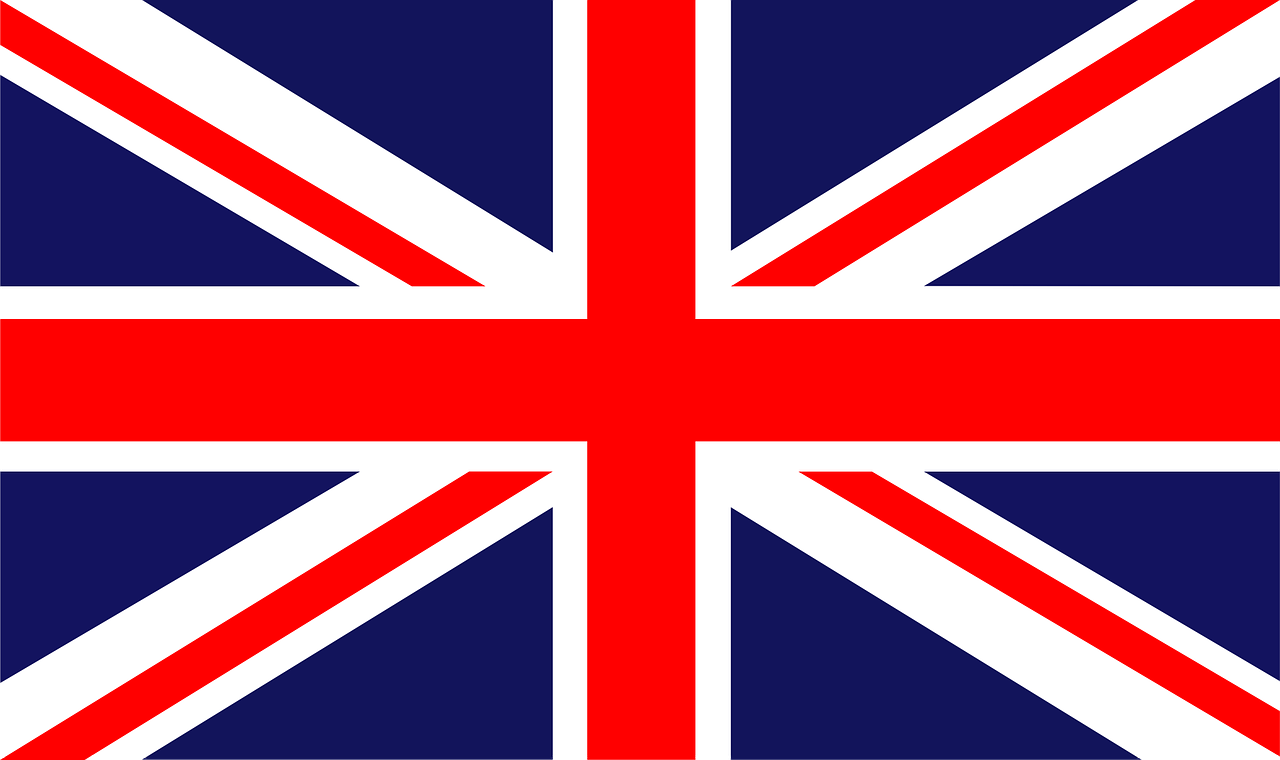Они вывалились на меня втроём.
Городская окраина, пыльная и неприветливая. Клонированные девятиэтажки. Окна, шторы, люстры, одинаковые лавочки у одинаковых подъездов. Одинаковые бабушки уже разошлись, закрыли на цепочки одинаковые двери своих квартир. Поздно. Сентябрьская ночь. Я поставил очередное, третье за полгода авто на стоянку и бреду домой. Под одиноким уличным фонарем меня тормозят ребята в спортивных штанах. Почти дружелюбные. Улыбаются.
— Эй, землячок, а ну не спеши, куда собрался? Деньги есть?
Тренированные. Умеют драться, это видно. Шакалы вышли на промысел. Денег нажить по лёгкому и размяться. В другой ситуации захотел бы выбраться целым, без фингалов и разбитой губы. Вот, возьмите деньги, не забирайте, пожалуйста, документы и ключи. В другой, но не сейчас. Сейчас я не боюсь. Я даже готов умереть. Уйти красиво, выместить напоследок свою обиду на жизнь, которая начала трахать меня. Трахать жёстко и методично. Схлестнёмся?
Внутри живота вскипает холодное бешенство и, поднимаясь сквозь диафрагму, давит на горло, прямо в миндалины. Я чувствую, как наливаются не моей, чужой металлической безжалостной силой мышцы рук и ног.
Я готов. Вежливо отвечаю.
— Деньги у меня есть – весело интересуюсь — Попробуете забрать?
Про себя спокойно прикидываю, что с тремя, конечно, не справлюсь, но надо свалить одного, вот этого, что спрашивал, и пока двое других будут пинать меня, засунуть «счастливчику» указательный правой в глаз. Продавить глазное яблоко. Там тепло и жидко будет пальцу. Внутри черепа. Он умрёт потом, конечно. Да и хер с ним. Хер со мной. Не душить, не бить кулаком. Просто палец в глаз.
Они, видимо, чувствуют безумие в моём тоне, в моих глазах и молча проходят мимо. Трое против одного. На пустой ночной улице. Уходят. Есть жертвы полегче и поинтереснее. Шакалы.
Стою дома под горячим душем. Нет страха.
Это было двадцать два года назад. В мае жена легла в больницу на плановое обследование. Два-три дня неожиданно растянулись на неделю, а то и две. Врачи качают головами, не говорят ничего определенного, нужно дополнительно еще. Анализы, рентгены, кардиограммы. К нам переезжает бабушка, моя мама. Двухлетней Саше нужен уход, а меня постоянно нет дома.
Потом наступила эта жаркая июньская суббота. Саша и мама гуляют во дворе. Что делал я? Кофе заваривал, книгу читал, посуду мыл? Не помню. Помню звонок в дверь, мама держит Сашу на руках.
— Уже нагулялись? Так быстро? Что-то случилось?
— Случилось. – Мама серьезная, почти сердитая. – Саша упала.
— Как упала?
— Плохо. Головой вниз. С горки.
Двухметровая железная горка во дворе похожа на уродливого карликового слоника. С одной стороны — лесенка, с другой спуск. Наверху площадка с низкими перильцами. Сегодня было много детей, необычно много. Очередь. Они скатывались, потом опять бежали на лестницу. Мальчик толкнул, Саша кувыркнулась через перила и головой вниз. Шеей об землю. Она даже ручки не подставила, еще маленькая, не выработался рефлекс.
Мама кладет Сашу на диван и бежит к телефону. Я присаживаюсь рядом.
— Сашенька, тебе больно?
Дочь не отвечает. Она меня не слышит. Её взгляд рассеяно бродит по потолку и… тухнет. Тухнет! Тухнет!!!
— Мама!!! Она не реагирует!
— Леша, я уже вызвала. Они едут.
— Саша, Сашуля, Сашенька!
Дочь через силу приоткрывает глаза. Через пару мгновений глазные яблоки закатываются под брови. Глаза закрываются.
Нет. Нет. Этого просто не может быть. Я эту горку, бля, болгаркой на лапшу порежу, на вермишель, бля. Где скорая?
— Саша! Сашуля!
Никакой реакции. Мне становится трудно дышать. Сашино сосредоточенное личико близко-близко, оно бледнеет на глазах. Бледнеет, замедляется, сереет, останавливается. Лицо моей дочери. Мне кажется, что комната за моей спиной раскручивается, что стены по очереди прыгают на меня. Нет! Этого просто не может быть. Моя мама врач. Она же вот, она рядом. Почему она ничего не делает? Мама. Саша. Нет. Не реагирует.
— Мама, она… Умирает?
— Лёша. Замолчи.
Моя Саша умирает? Моя маленькая добрая девочка, которая ни сделала никому зла? Она набегается, устав, подбегает ко мне и тычется в колени. Её молочно-белая шейка пахнет так сладко, а кудряшки прилипают к затылку. Сашенька. Этого не может быть. Это какой-то абсурдный фильм. Я не здесь, это не со мной. Жарко. Очень жарко. Я слышу, как в ушах стучит кровь. Где скорая? Где, блядь, скорая?
— Мама! Где скорая?
Она не отвечает, держит Сашу за руку. Пульс.
— Мама, пульс есть?
— Пока да.
— Что значит «пока»? Зачем ты так говоришь?
Мама на мгновенье отрывается от Саши и поворачивает голову ко мне:
— Лёша, иди… на балкон. Покури.
На балконе порыв ветра, но мне не становится легче. По голове, по лицу течет пот и заливает глаза. Или это слёзы. Я не хочу так, хочу выйти из этой комнаты, выйти из этой жизни. Подкуриваю и тут же сам ломаю сигарету. Смотрю в небо над крышей соседней девятиэтажки и обращаюсь к Нему.
— Слушай, Ты!!! Я ведь редко. Я Тебя по пустякам никогда не дергал. Но сейчас. Прошу. Всё что угодно, только не это. Слышишь? Всё что угодно, только не это.
Он услышал. Шаги в коридоре. Это скорая. Реанимация, потом еще неделя в больнице, возвращение домой.
Он услышал.
«Всё что угодно, только не это». Рр-раз!
Я разбиваю машину вдребезги, сам ни царапины. Спасибо Тебе!
«Всё что угодно, только не это». Дв-ва!!
Обследование у жены закончилось плохим диагнозом, потом операция. Плохая, трудная операция закончилась инвалидностью.
«Всё что угодно, только не это». Трр-ри!!!
Опять авария. Девушка в одной туфле и порванных колготках лежит лицом вниз. Из-под разметавшихся русых волос быстро набегает на асфальт лужица густой тёмной крови.
— Лёха, – лицо моего приятеля перекошено, – она мёртвая. Тебя в тюрьму посадят.
Посадят? Может быть. Мне не страшно.
Мне никогда больше не будет так страшно, как тем липким июньским днём.