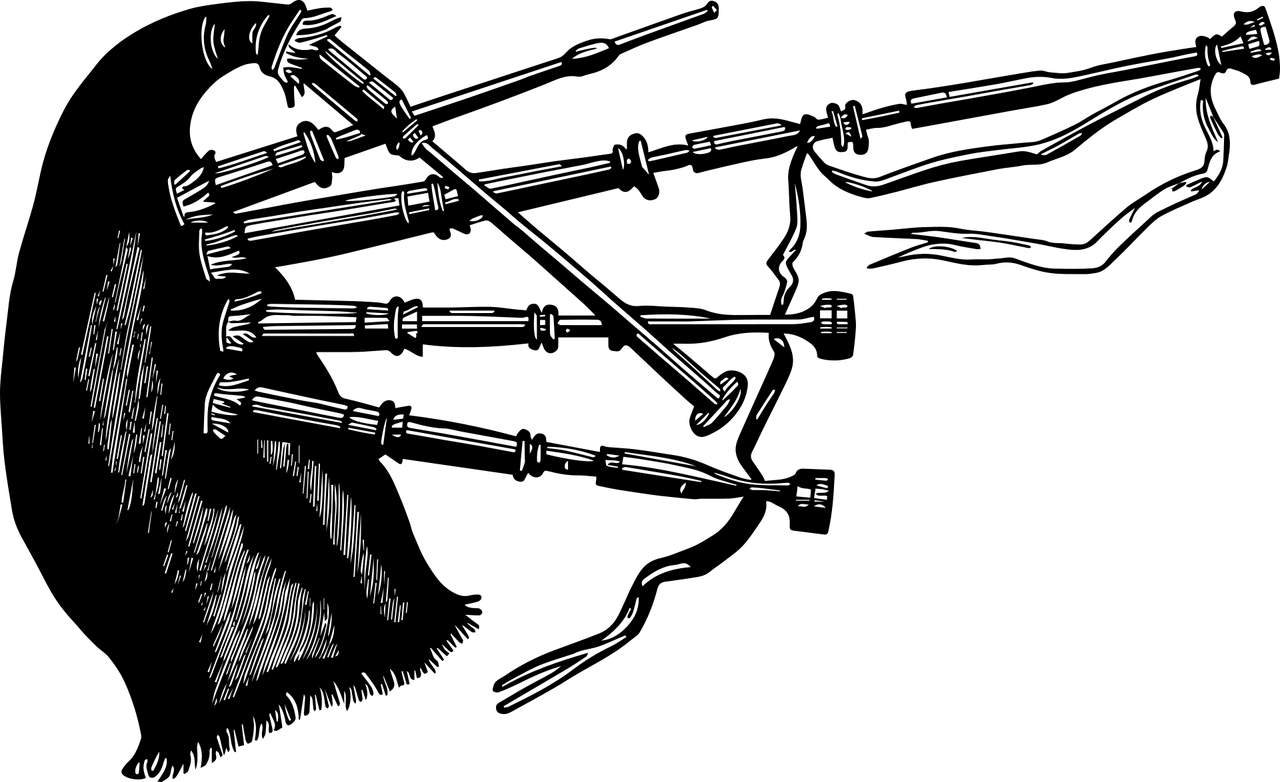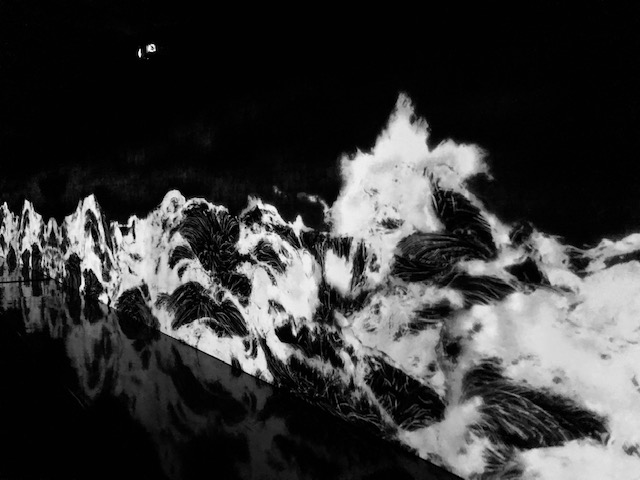В середине июля 2021 года в Одессе состоялась церемония награждения победителей пятого сезона Одесской международной премии им. Исаака Бабеля. Дипломантом конкурса стала Екатерина Блынская (Россия) – за цикл рассказов «Ниже мертвых».
Техника безопасности
В пятом часу Сергей возвращался со смены домой, уже выпив пару бутылок пива, прихваченных на остановке между Мысками и Осинниками. Он вруливал в сыроватую квартиру с видом победителя, откидывал кроссовки с прохода резким движением щиколотки, и шёл мыть руки и глаза. Не всегда получалось в мойке избавиться от угольной пыли. Да и дома не всегда .Хотелось есть. Хотелось спать. Чёрт с ней, с пылью.
Он шёл на кухню, отворял холодильник. Хороший холодильник. Он мог себе позволить купить большой, хороший холодильник на зарплату машиниста горновыемочных машин. Он ведь сейчас работал в лаве, а лава пёрла. Шла добыча. Шли деньги.
Поев ленивого борща, с оковалками капустных кочерыжек, заправившись ста граммами водки и закусив её недоетой в шахте забутовкой, что брал с собой на работу, Сергей шёл в спальню.
Там обычно сидела Танюша, жена. Она приходила из магазина, где работала продавщицей и сразу же падала за компьютер смотреть свою страницу в «Одноклассниках»
– Вее…опять эта Людка Дорохина свою рожу выставляет…Опять пятёрки ставь. Да кому «пятёрки»? Этой харе невпроворотной? Фу…
– Ну, не ставь…– вяло отвечал Сергей, развалившись в кресле и попивая чай.– Давай, комп освобождай. Меня ребята ждут.
– Чо, опять? Опять, да? Достали твои долбаные танки.
Танюша сидела ещё полчаса или час, работая в фоторедакторе. Украшала своё фото, снятое на мобильный телефон разными рамочками, цветочками, пчёлками и гусеничками.
– Ты чо там, заснула, лапа? Выходи, давай.
– Надо второй ноутбук покупать, чтоб ты заигрался.
– Да хер тебе. Тебя тогда не вытащишь.
– Тебя вытащишь!
Словесная перепалка кончалась тем, что Танюша, психанув, резко отодвигала стул и уходила, хлопнув себя по жирным ляжкам, мотнув куцым чёрным хвостишкой и зардевшись гневными щеками.
– Да когда тебя уже там чпокнут. – кидала она Сергею, надевавшему наушники, чтобы погрузиться в игру.
– Успеешь ещё…дай мне пива. Пива, говорю, дай, овца! И чего ты тут на клавиатуру печенек своих накрошила, слепошарая кобыла!
Танюша уходила на кухню, включала телевизор и набирала подругу.
Так подходила ночь. Сияли прощальным закатным светом вызолоченные верха берёз, гребешки предгорий светлели, выпирая чёрными пирамидками пихтовых наверший. Тайга засыпала древним, как сам космос её окружавший, сном. Беззвучно таясь и укрывая свой мир до нового утра, пока эхо разрезов и гул заводов не пробуждал её от хрупкого сна.
Сергей ложился поздно, Танюша чуть пораньше и ждала его в постели час или два, думая над жизнью. Думала, куда потратить зарплату, которую обещали дать завтра. Думала, что им пора съездить в Китай. А они уже девять лет не могут оторваться. Думала, не зальёт ли Томь дачу, низко лежащую у края воды. Потом засыпала. Сергей приходил, ложился тихо рядом, тёр красные глаза, долго кашлял и засыпал счастливый, что выиграл очередное сражение.
На другой день Танюша собирала его на работу. Резала сало, чёрный хлеб, заворачивала в фольгу котлеты и наливала термос ядрёного чая с сахаром. Обычно, они прощались переругиваясь. Это была их семейная привычка.
За всё время не получалось завести ребёнка. То жили с матерью Сергея, старухой-язвой, потом снимали комнату. Потом взяли кредит. На ребёнка как-то не было времени. Не было сил, а что первопричинно – не было желания. Танюша ещё хотела поездить -покататься, так сказать, предъявить себя миру. На кой чёрт она этому миру такая нужна? Но Сергей не отговаривал. В выходные уходил в баню, уезжал на охоту с друзьями.
Охота случалась какая-то всегда непонятная. То подстрелят горного козлика, а он ухнет в пропасть. То сеть с рыбой зацепится за корягу и никак её не достать…Редко приносил Сергей добычу и приходил, что называется, на рогах.
Другое дело – работа. Он любил работу. Работал, как сумасшедший. Пролезал в любую щель, мог забраться в круто падающий пласт и выработать там полуметровый проход. Но давно уже пласты пошли по пять, семь метров. Теперь и он ездил на ГВМ. На комбайне.
Теперь он отпустил усы и бачки. Насмотрелся в прошлую командировку на московских хипстеров. Только здесь, в Сибири, это было не к месту. Тут так не брились.
Танюша на работу несколько дней не ходила. Взяла больничный. Валялась перед телевизором, читала «Караван историй» и сподобилась напечь блинов, которые стали гореть по кругу и Танюша, выругавшись, бросила это дело.
Села за компьютер, промаявшись весь день. Пока она сидела с бокалом пива в соцсетях, что-то ухнуло, громыхнуло вдали. Танюша обернулась на окно. Стекло легонечко вздрогнуло несколько раз. Октябрьский дождь брызнул на него, размазав силуэты обрезанных тополей.
– Ударило…– подумала Танюша и глотнула из вспотевшего стакана пузырчатого пива.
…
Авария случилась десять лет назад. Рванул метан. Погибло пятьдесят человек. Около ста получили различные травмы и теперь им платили регрессы. Приходилось каждый год доказывать, что они не перестали быть инвалидами. Из этих ста уже половина погибла по разным причинам. Кто-то кончал с собой. Не мог пережить, что друзья в могиле, а они живут. Кто-то спился, замёрз, угорел. Часто живые завидовали мёртвым, что семьи погибших получили по миллиону, или по два. Могут купить квартиру в городе и какое-то время жить. Отправить детей учиться. Но всех можно было оправдать. И все оправдывали себя сами.
После этой страшной аварии градообразующее предприятие закрыли. За год разобрали здание комбината. За три года клуб и столовую. За пять лет вывезли блоки фундаментов. За десять -– пучки арматуры и горки битого кирпича были затянуты возрождающейся тайгой. Дорога, идущая к комбинату, по которой прежде ездил рейсовый автобус, размылась дождями, растрескалась, просела и по ней ходили теперь только грибники, чтобы срезать путь до остановки общественного транспорта, следующего в город.
Соседняя шахта, Капитальная, которая приютила безработных с аварийной Тайжинской была на шесть километров дальше. И добывали уголь ниже. Лава, уголь марки «ж», залегал прямо под Тайжинскими выработками.
Из – за всеобщей экономии, закрыли на Тайжинской шахте последний участок водоотлива. Насосы перестали качать воду, идущую по полым норам – выработкам. А воды было много. Здесь не озёра, не речки, а подземные моря.
Воды пошли. Сочились через пласты, через породу, вниз, в глубину. В Капитальной стала мокнуть лава, пропитавшись тайжинской водой. Падала кусками, высыпалась рисовым зерном прямо на головы горнорабочих.
Сергей в свои тридцать пять не знал другой работы. Его прабабка была коногоном, дед взрывником, отец электриком. Всех уела эта шахта. Но Сергей любил работать. Натрудившись, он удовлетворённо радовался тому, что теперь можно и отдохнуть. Не будет стыдно смотреть людям в глаза. В мойке, греясь под чуть тёплой струёй воды, или ожидая своей очереди, он шутил с парнями про жизнь, тёр мочалкой лицо, которое постарело до времени от постоянного сурового мытья. Курил на остановке, приклыдываясь к горлу бутылки и это было время его счастья. И то, что он не знал и не хотел знать другой жизни его держало на плаву. Он гордился своим трудом и радовался, когда наступал день зарплаты и телефон присылал заветную «смс» о переведённой сумме.
В начале смены лило с потолка. Все промокли насквозь, но работать как– то было надо. Лава шла жирная, богатая. Восемьсот десять метров под землёй. Час сорок пешком до выхода по убегающим вверх риштакам.
Сергей работал, думая как бы сегодня ему успеть зарегистрироваться на онлайн -сражение. Чтобы не задержался, как вчера , шахтовый автобус. Руки его, с чёрными пальцами, взволнованно перебирали рычаги комбайна. «Что за жизнь пошла? Всё автоматизировано, всё чётко. Копай, ломи внутренности земли. Мы и на ней хозяева, и в ней тоже. Так скоро мы докопаемся до самого ада» – думал Сергей.
Притащился звеньевой.
– Серёга, там насос сломался на водоотливе! Я пойду, посмотрю. – крикнул он в окошко.
Сергей выглянул.
– Иди! Чего там с метаном?
– Нормально!
– Прохладно становится!
– Сергей! – крикнул звеньевой.– У тебя ещё наряд! Так что добивай этот участок и иди к нам на помощь, воду надо выгнать.
В лаве обычно было жарко. Мужики потели, забивая на то, что пот из -под касок лил на глаза, но теперь откуда то, словно морской бриз, потянуло влажным холодом. В забое стало тяжело дышать, как будто порода сдавливала со всех сторон с невиданной силой. Сергей выключил телефон, вытащил наушники из ушей и заглушил машину. Он спрыгнул на уложенные штабелем швеллера, и хотел было сойти на пол, но оказался не на полу, а в воде по колено.
Капли воды, падающие с кровли, плюхались вниз, словно камушки, и всё чаще и чаще ударяли, нарастающим ритмом поднимая назойливую, тревожную музыку. Да, вчера все промокли. Мужики примёрзли в струях сквозняка и человек семь с соплями и кашлем…В мойке вода из душа чуть тёплая. Полуживая. Позавчера начальство уже не спускалось. Только горный мастер ходил с озабоченным лицом. Проходчиков завернули. Теперь только добыча идёт.
– Не умеют они работать. Какая техника безопасности! Какая может быть у нас техника безопасности!– сказал Сергей, разводя коленями воду с жирными кусками угля, вывалившегося из – под крепи.– Где все? Куда провалились?
В выработке было тихо. Издалека доносилось еле слышное гудение дизеля, подъехавшего за сменой.
Сергей пошёл вперёд, то и дело отплёвываясь от грязной воды, падающей и текущей сверху. Ему стало не по себе. Он дошёл до ленты и заскочил на неё, удивившись, что ещё немного и лента утопнет.
Сейчас они вели добычу прямо под тайжинским горизонтом. Вон там, высоко, как облака над землёй в дождь, жидкие угленосы, смесь породы, угля и подземного моря. Всей тяжестью, через трёхсотметровый слой сочатся сюда.
Сергей шёл вперёд под мигающим светом коротящих лампочек. Ощупал самоспасатель, думая, поможет ли, если что? Впереди участок водоотлива. Насос молчит. Разговоры мужиков.
Вдруг, глубоко вверху, что– то сдавленно хряснуло, и за этим гулким, нутряным звуком, послышался удар и лампочки под потолком заходили ходуном.
– Горный удар…Пласты садятся.– успокоил Сергей сам себя.
За поворотом выработки слышны знакомые матерки звеньевого и грозовцев. Они идут сюда с водоотлива, шумно расталкивая загустевшую воду сапогами.
-Серый!Серый! Слыхал, как бахнуло?– спросил звеньевой.
– Слыхал!– ответил Сергей и улыбнулся, блеснув зубами с чёрного, как сковородка, лица.– Бахнуло и что? Поднимаемся?
– Да, дизель ушёл. Пешком пойдём.– укоризненно произнёс звеньевой и плюнул пылью.
– Да что там…в первый раз? У меня вот сегодня Прохоровка, вот что.
– Ага?– звеньевой хлопнул Сергея по плечу.– Ты бы уже, что ли, взрослел…
– Такие как я не взрослеют.– гордо сказал Сергей.– Что, разве нас мало таких? Пришибленных?
– Да что с тобой говорить, с дубом…
Сергей снова улыбнулся.
Повскакивали на ленту и пошли вперёд, по наклонной, к выходу. Лента стояла.
– А чего лента стоит? Почему не едет?– спросил Антона один из рабочих.
– Да хер её знает, чего она стоит.
– Может, там авария какая?– подумал Сергей.
Если бы он не был уверен в том, что будет приходить с работы всегда живым и здоровым, он бы не полез в шахту. Никогда бы не полез. Но в душе всегда ворочалось сомнение. И порой ему казалось, что здесь конец всему. И не надо искать других концов, другой судьбы. Вот есть люди, что ищут себя, а есть, которые уже наши. И не сдвинутся им теперь.
Шесть человек в звене. Седьмой звеньевой. Что боятся с такими? Двое поотстали. Сергей шёл по ленте, когда свод снова свело в судороге удара и он громыхнул сразу вокруг. Сергей дрогнул на этот раз.
– Пласты садятся.– сказал звеньевой и потянул руку к поясу.
– А где Водяной с Решетовым? – спросил Сергей.
– Сзади пёхают.
Вода неожиданно плюхнула под лентой и напёрла.
– Что, надо наверх звонить!– вскрикнул Сергей и почувствовал омерзительный холод вдоль позвоночника.– Вадик, Антон, давайте звонить и бежать. По ходу там что-то бахнуло.
Звеньевой, вытерев круглый нос, зло рявкнул на Сергея.
– Чего! Чего там! Бахнуло? Да и что?
Вода зажурчала под лентой и перехлестнула её.
– Парни! Бегите! – крикнул огромный, как шкаф, Вадик и побежал по ленте.
Поток шёл из глубины выработки. Он нарос, отяжелел влекомыми в своих недрах камнями, кусками опалубки, углём, поднятыми с пола стойками и мчался следом. Проплыл захлебнувшийся Решетов, за ним Водяной, вытянув руки вдоль спины. Сергей обмер и побежал следом за звеньевым, доставая на бегу самоспасатель.
Но впереди тяжело осел свод, прямо на ленту, в нескольких шагах от Сергея, в глазах которого пробежала вся его жизнь и почему– то Танюшка, стоящая на кухне в коротком, бесстыдном халатишке, с мобильником в руке.
…
Танюшка нервничала. Она не могла включить компьютер.
– Ну, блин, дебильный бук! Включайся, а?
Она таращилась на потухший экран. Клацала мышкой. Решилась на последнее. Вытащить батарею. Нет…а вдруг Серёгина игра потеряется…Он тогда её пришибёт.
Танюшка набрала подругу.
– Оль…привет. Скажи Марику, пусть придёт с компом моим разберётся. Он глюканул. Да я не знаю! Чего ударило? В лаве? Твой пошёл на работу? Нет? Зачем спасатели?
Танюшка положила трубку и задрожала.
За окном лил дождь, на глазах превращаясь в колючую, каменную соль.
Дура калтанская
За стеной жили двое. Условный дед, которого я видела один раз и Условная бабка, она никогда не выходила на улицу, а кровать ее стояла за стеной. И ее высокохудожественные речи отлично слышались, особенно по ночам, под гул телевизора. Но наша комната была длинной, как вагон и узкой настолько, что развернуть кровать поперек было невозможно, мы после переставили ее к другой стене.
Как только наступал день выдачи пенсии, я начинала прислушиваться к движениям у соседей. Некий мужик, как оказалось потом, сын деда, шумя пакетами приносил им бухло.
Было слышно всё, как будто строители делали дом из личных кирпичей, пожалели их и в результате решили варганить стены из оргалита.
Стук бутылок, довольное кряканье Условного Деда, стук стаканов, стук о доску: нарезали сало.
А потом звон, гром, орущий телевизор, храп, рёв, и напоследок ругань.
Эта ругань и была той песней, ради которой я была готова терпеть все предыдущее.
– Ах, я, дура калтанская! Я тебя так люблю! За что ты мою душеньку грешную вытерзал то всю!
– Иди на, дура!
– Любовь то не пропала! Дорогой мой человек! Славный мой дружочек! За что ты вытерзал, за что вызверился на меня, как серый волк! Разве я тебе не давала? Разве я тебя не целовала и пьяного, и сраного, и не мыла твою жопу и не стирала твои портки?
– Иди на, дура!
– Калтанская я дура, что так тебя любила! Всё сердце мое изошло, грудь давит, душа йокает, а рученьки– ноженьки, теб, говнюка поганого даже и ударить к херам не могут, да чтоб тебя, упыря, кровопийцу боженька поскорее прибрал!
– Иди ннна! Дуррра!!!
– Ах, иди…иди…найди такую калтанскую дуру, что тебя будет как я любить, дорогой мой человек! Эх, за что меня так бог наказал, за что меня мамка от тебя, изувера, не спасла? Напоролась я на козла, пропала! Дорогой мой человек…
– Иди ннна, дурра…
– Иди ко мне, хоть поцелую.
– Да я тебе только налил, сука!
– Ну, иди, поцелую, солнышко!
– Пошла ннна!
– Дорогой мой человек, ты скажи мне, за что, за что я так тебя люблю!
Из их бесед я узнала, что бабке чуть за восемьдесят, что она работала на водоканале вместе с дедом, что у него есть сын и что когда бабку закопают, сын хату продаст.
Единственный раз когда я видела деда, он шёл из магазина, еле шевеля ногами и из под шапки– ушанки виднелся только громадный красный нос.
Вторая наша встреча произошла несколько в других обстоятельствах.
Наводя в убогом подъезде красоту, я поставила на подоконник горшки с цветами и регулярно их поливала и протирала. И вот, в один удивительный день, я обнаружила, что в горшках появились бычки. Много бычков.
Кто – то специально их использовал, как пепельницы, мои цветы.
Я побежала домой и написала длинное лирическое полотно с упоминаниями всех родственников, предков и потомков, а так же родоначальников и попустителей тех господ, которым пришло в голову совать бычки не в обычное место.
Но Сибирь суровая страна. Прочитав записку во время своего курения, сын Условного деда, пришел ко мне и начал выносить дверь.
– Чё……– на десять минут зарядил он.
– А потому что…..– сказала в ответ ему я, быстро, но ёмко.
Жена шахтера это всё умеет, но просто сдерживается, да.
Наутро он выбросил мои цветы с горшками на мороз и они погибли.
После этого разговора прошла неделя, опять давали пенсию.
Опять соседям принесли бухло.
Они снова пили.
Бабка шумно сокрушалась о своей испоганенной красоте и неоцененной душе.
Потом были песни с аккомпанементом на табуретке.
Наконец, вопросы почему она, калтанская дура, любит его каждый день все больше.
Вот почему? Почему? Скажи, почему?
– Пошла нна!
А часа в два прекратилось телевещание и телевизор их начал гудеть.
Я как раз очень плохо спала, много работала, потому каждый час сна для меня был драгоценен.
Я слушала гудение телевизора около часа, стучала в стену, но ответом мне был храп.
Я оделась и вышла на лестничную клетку.
Дверь к соседям была заперта на шпингалет.
Я ударила ногой со всей силы и дверь открылась. Передо мной лежали вонючие руины какой– то разлагающейся жизни.
Справа на своей кровати у стенки храпела маленькая чернявая бабка с открытым беззубым ртом, слева скрюченный дед под грязным одеялом, видимо, никогда не знавшим пододеяльника.
Мне перехватило дыхание от смрада. Я подошла к телевизору и вытащила вилку из розетки двумя пальцами.
Соседи продолжали оглушительно храпеть. Я на цыпочках обошла груды бутылок и огрызков, выключила им свет и прикрыла за собой дверь.
Но спать все равно не смогла. Теперь я пыталась развидеть комнату и калтанскую дуру, которая положила жизнь и красоту за своего дорогого человека.
Я жалела их…Что тут сделаешь, сердце– не камень.
Семистрельная
Мы семейно всегда любили экзистенциальные темы. Вот тема смерти мне нравилась с детства. Моя мощная бабка наследница коломенских старообрядцев, ещё пятилетней водила меня на похороны.
Я помню только одни, на Рогожской заставе, как мы собрались тогда с незнакомыми старухами в единоверческой церкви, где меня маленькой крестили. Это был восемьдесят четвертый год, я была страшно молода, а бабульки вокруг просто собрание мумий. Я помню настоящую поминальную кутью из разопревшей полбы с медом и черными надутыми изюминками. Помню, как сухие локти старух в самошитых тяжёлых, мшистых платьях задевали мою голову, покрытую платком.
– Покройся, озорница, – говорила строгая бабушка, когда я пыталась его снять.
Та мёртвая, единственная влипла мне в память ещё и потому, что ее звали, как меня. И сам храм, весёлый, нарядный, летний, с мельтешащими огоньками свечей, высоко стоящих над моей головой.
– Неужели можно быть такой жёлтой и сухой, и одновременно быть Катей?– думала я тогда, копаясь в мелких мыслях о вечном.
– Крестися, Катерина, Осподи, на лоб, Спаси, на пуп, Сохрани на правое плечо, Помилуй…на левое и добавь ,,Мя,,
– А что это : ,,мя,,?
– Меня, значит. Но ты говори: ,,мя,,
Наверное, с детства я впитала эту маету.
В Сибири я жила всего три месяца и заметила, что умирали в Тайжине очень часто. Десять лет назад местные удивлялись почему. Быстро привыкли. В ДК поселка можно было столоваться на поминках и все этим, даже с удовольствием пользовались. Потом открыли марганцевый завод, стали экономить и отключать дорогущие немецкие фильтры. Хоронить дешевле, чем включать их даже раз в неделю, а уж обслуживание… И народ стал помирать ещё чаще.
У дверей обшарпанных поселковых подъездов каждый божий день алели одинаковые крышки гробов, поставленные ,,на попа,,
Из квартир доносилось тягучее бормотание отца Максима, читающего ,,усечённый,, чин отпевания.
Отец Максим у нас вообще не стеснялся и вся его работа заключалась в двадцати минутах чтения, особенно при отпевании древних стариков. Родне было тяжело в узких комнатах стоять вокруг гроба и дышать свечным духом. Никто из местных не был привычен к церкви и ее правилам. Местные по – прежнему жили в безвременном гало коммунистической мечты. А отпевать было надо, как и крестить. Просто потому, что так делали все.
Оттого и отец Максим очень не старался.
Но тогда, в тот день, когда я вбежала в комнаты Славкиной бабули и увидела ее, маленькую и высушенную, будто бы это уже не человек, а гигантская саранча под одеялом, отец Максим мне помог. С чистым сердцем отозвался.
Уже несколько дней бабуля не могла умереть. Она то замирала, то отмирала и вращала мутными глазами, то снова забывалась и часто дышала, откинув голову. Видно было, что ее распирает какое– то дело. А она не может сказать какое. Глазами не видит, не говорит, не слышит. Часует уже.
Я вбежала в комнату, скинув свои меховые унты и шубку, пахнущая снегом, села прямо на бабулину кровать и взяла её за узловатую ручку.
Феня, наша родня, Славкина тетя, смотрела на меня подозрительно.
В глазах ее читалось ,, все то вы, москвичи знаете, везде то вы бываете,,
– Крестик есть у бабули?– спросила я, глядя на едва живую старуху и не глядя на приятную женщину Феню.
– На что? Она и в бога не верила.
– Дайте ей в руку крестик.
Снова одарив меня укоряющим взглядом, Феня вышла и вскоре вернулась с простым алюминиевым крестиком на черной верёвочке.
– А говорили не верит…
Бабуля слепо схватила крестик и сжала его в ладони, не открывая глаз, выхватив его подобно хамелеону из ночного укрытия .
Я смотрела на неё и думала, что здесь точно что -то не так. Крестик…здесь в Тайжине отродясь не было храма. В Осинниках тоже. Значит, бабуля была в Кузне, посещала службу. Когда то. Крестик совсем гол. Значит, лет сорок он точно был на ней.
– Знаете что, я схожу за батюшкой,– сказала я, выглядывая в бабушке что – то необычное.
– Зачем… Она же ещё…живая…она же…– возмутилась и заплакала Феня, высморкавшись в платочек.
– Причем тут это! Вы слышали что – то о соборовании?– спросила я её.
– Ннет…а что это?
– Это таинство. Но оно для живых. И думаю, бабушку надо соборовать…
Я встала, поправила шапку, снежинки на которой стали уже каплями.
– Измучила она меня… И себя… Не уйдет никак…– сказала Феня, тихо плача.
– Потому что она ждёт. Вот поэтому.– сказала я и вышла.
Я побежала мимо Сада Мира, через дорогу к храму– клубу, где с самодельной дощатой колокольни погромыхивали обрезанные кислородные баллоны– колокола.
В храме пахло настоящей церковью. Когда то юный мой Славка тут работал ударником на установке, играл в группе с пацанами. Клеил девок. Дрался за клубом. Теперь все чинно.
Я вошла и сразу двинулась к работнице в сером платочке. Та выпучила глаза.
– Служба только по выходным! – выпалила она испуганно.
– Мне нужен батюшка.– отрезала я.– Соборование пусть проведет.
Работница куда– то метнулась и пока я разглядывала серо– зелёные стены бывшего клуба, с навешанными на них иконами, издалека послышалось шуршание, шорох и тяжёлые шаги.
Вышел необъятный отец Максим в черной шапочке и в полном обряжении.
– А…вы…я тоже так и понял, что никто из местных…
– Добрый день. Хотя…какой там добрый… У нас умирает бабушка.
– Умерла?– переспросил отец Максим цепко и совсем по – своему чину внимательно глядя на меня.
– Нет. Нужно соборовать.
Отец Максим улыбнулся в бороду. На самом деле он был моложе меня года на три, но сейчас казалось, что от собственной значимости он раздуется до митрополита.
– Я сам…не пойду, довезете? Потом назад?
Я кивнула.
Выбежав из церкви бросилась звонить мужу. Он проснулся и немедленно подъехал на машине. А я у напряжённой моей непосредственностью работницы купила лампадку и иконку ,,Семистрельную,,
Семистрельная мне была по душе.
Отец Максим сел впереди с пакетом где шуршали и позвенькивали предметы таинства соборования.
– Добрый день…– сказал Славка, позёвывая.
– Добрый… Хороший морозец стоит– крякнув, сказал отец Максим , умещаясь на маленьком пространстве.– Приходите на службу…как нибудь…
– Хорошо!– прервала я отца Максима.– Придем, как сможем! А вообще то мы ходим, правда, не часто.
– Плохо! А надо часто! И в Осинники на ездите в храм?
Славка улыбнулся.
– В тот большой?
– Да!
– Знаем… Это наш товарищ его строил. Эх…знали бы вы как и на какие деньги…
– А это неважно! Я, конечно, тут только два гола, но у меня уже шесть человек…в приходе.– отец Максим хотел снова что– то длинное сказать и глянул на Славку, тоже заросшего бородой.
– Нет, самоспасателю не мешает…– отозвался Славка на вопрос, плавающий в хитрых Максимовых глазах… Никто в Сибири кроме священников не ходил, как он.
– А…ясно…ну, как сможете, приходите…
Мы довезли отца Максима до дома бабули, я проводила его, засветила перед Семистрельной лампадку, напугав Феню, и вышла дожидаться Максима в машине, держа её прогретой. Мы тихо переговаривались со Славкой.
– Думаешь, поможет ей Максим?– спросил Славка грустно.– Как она быстро слегла…и никак не помрёт. Она давно уже так мается.
– Конечно, поможет. Странно, что никто не догадался раньше.
– Она ж неверующая была. Работала в войну коногоном, потом на поверхности…Шестеро детей, дед помер в шестьдесят первом…Они религии боялись, как огня…
– Это неважно. Родилась то она ещё до революции, крещёная была.
– Это да.
– Ну, вот.. и крестик мне Феня нашла. Представляешь? Причем крестик хранила бабуля.
– Да ты что? Даже так? У бабули был крестик?
– Был и есть.
Отец Максим вышел, отдуваясь, с красным лицом. Проковылял до машины, сел, хрустнув сиденьем.
– Она…открыла глаза и…улыбнулась…– сказал он одышливо.– сколько лет бабушке?
– Девяносто четыре скоро.– ответил Славка.
– Теперь спокойно ко Господу отойдет.– вздохнул отец Максим.
– Послезавтра.– сказала я с заднего сиденья.
– Почему…
– Завтра мой день рождения. Она не умрет завтра. Она не сделает этого.
– А отчего вы именно образ Семистрельной Богородицы взяли?– словно пытаясь меня разговорить, спросил отец Максим.
– Потому что умягчить хочу злые сердца. – ответила я.
Отец Максим пожал плечами и замолк. Он больше нас не звал на службу и ехал молча. Кивнул, когда мы протянули ему деньги и как– то все подозрительно смотрел на меня и Славку да так, что я сказала:
– Что, отец Максим, не поймёте кто мы и чего мы? В кого верим? Зачем приехали?
Максим ухмыльнулся. Он покивал головой, как сытый першерон, и попрощавшись вошёл в свой подъезд.
Объяснять что то было бы долго.
Бабушка на другое утро весь день улыбалась. Я нарядилась и накрыла стол у нас со Славкой на квартире. Мы узким семейным кругом отметили мой день рождения, тихо и без приключений. Пришли все дети бабули. Как оказалось в последний раз они сидели за одним столом. А наутро бабуля тихо отошла.
И я понимала, что она меня так отблагодарила. Наверное, за то, что я услышала её без слов. Я, даже ещё не жена её внука, не мать его детей, а просто близкий в будущем, человек, только через год ставший продолжением её крови и рода.
Семистрельную мне потом вернула Феня, с каким– то первобытным страхом, через мою свекровь.
Я так думаю, испугалась Феня этих святых стрел.
Колёк
Зима, долгая и беспросветная, тянулась и тянулась. Небо невесело пухло всё новыми снегопадами. Потом лениво сыпался тяжёлый снег. Он делал глухоту и вату, ложился метровыми пластами на обрезанные лопатами дворников края сугробов на которых виднелись чёрно– серые мраморные жилы. Количество снегопадов было огромно. Следом выпадала сажа из котельной и оставляла свои временные следы, графически вкрапляя чёрное в белизну, часть земли в часть неба.
Я провожала Соньку в школу, по дороге она просыпалась, зевала, ловила ртом снежинки и кокетничала своим новым статусом первоклассницы.
– Мам, ну ты посмотри, какие тут дома кривые и косые…
– Это у них такое искусство. Местное. Искусство бедности.– отвечала я грустно, в душе тоскую по Москве.
– Искусство рукожопья! Ремонт надо качественно делать, мам!– веселила меня Сонька.
Я не могла пойти на работу, потому что здесь, на посёлке, работали только свои. Мои попытки устроиться хоть кем – нибудь ни к чему не привели. Среди зимы освободилось в школе место вожатой, но дирекция требовала невозможного за нищенскую зарплату и я, вспоминая, что в Москве столько не получают даже уборщицы, отказалась.
– Сиди уже дома. Весною свадьба, а потом родишь.– сказал Славка.
– Но мне очень грустно.– хныкнула я.
– Иди пой. В Дэкашке есть прекрасный хор.
Я стеснялась прийти в хор и попроситься петь, поэтому Славка повёл меня сам.
Держась за Славку обеими руками я скользила по заметённой дороге к поселковому Дому Культуры.
За деревянными резными дверями и просторным холлом Дом Культуры был похож на все подряд такие – же советские заведения. Огромные мозаичные панно с читающими на траве девушками, мышцатые рабочие в спецовках, приветствующие молодое племя поднятыми вверх руками и несколько неимоверно крутых картин выложенных блистающей смальтой с дивными цветовыми переходами, с оттенками и тенями, сделанные руками настоящих местных мастеров.
В остальном Дом Культуры фонил запахом столовки, где никогда не прекращалась жизнь и в большом холле почти всегда были разложены столы под скатертями. Поминки, свадьбы и юбилеи проводились здесь.
Когда Славка переобнимал всех своих воспитательниц, нянь и учительниц, поющих в хоре и представил меня коллективу, словно что-то родное вдруг коснулось сердца. Они здесь жили так тесно и неразделённо, десятилетиями, годами, что хотелось плакать от умиления. Такой искренности нельзя было больше найти в Москве. Она оттуда ушла ещё в начале девяностых, вместе со старой страной, а тут никуда не делась. Жила в людях.
Славик ушёл, а меня посадили между двух сопрано. Руководитель хора, длинный человек в интеллигентной одежде, поразительно сильно отличающийся от шахтёрской братии, Дмитрий Фёдорович, выдал мне листочек и карандаш для записывания песен.
Я вернулась домой с таким полным и счастливым сердцем, что боялась расплескать это чувство разговорами. К счастью, Славка ушёл в ночную смену и я заснула в гостиной на диванчике, с ощущением обретённого покоя.
Теперь у меня появилось важное дело, кроме домашних забот и гощения у свекра со свекровью. Свёкр сейчас работал на тракторе, чистил от снега улицы посёлка и я иногда видела знакомый красный кузов то там, то сям, останавливалась, махала двумя руками и он сигналил в ответ.
Я часто выходила из тёмного подъезда встречать Славку, и как -то стала замечать, что при моём выходе из -за сугроба, вверх по косогору , всегда к моей скамейке бежит чёрная тень.
Эта тень называлась Кольком. Служила сторожем на водоканале и выглядела, как чёрный ушастый пёс, размером с небольшую овчарку.
Сперва я не замечала его, когда он, с другими собаками, пробегал, стремглав, по посёлку. Но как -то раз вынесла для него косточек и он аккуратно, из темноты вышел и взял в зубы пакетик прямо из моей руки. С тех пор я выходила в любую вьюгу, в любой мороз и холод, чтобы открыть ему подъездную дверь и впустить погреться.
– Колёк! Колёк ! Колёк! – звала я его из метели и он прибегал припорошённый, довольный, гордый.
Его шкура вся была чёрная – от хвоста, весело загибавшегося пушистым колечком, до носа. Только на груди сияло пятно белой шерсти величиною с чайное блюдце. Поджарый и длинноногий Колёк выглядел уютным и добрым из-за длинной шерсти, хоть и держал в строгости всех окрестных собак.
Он полюбил сидеть у моих ног на горке, с удовольствием глодая выкопанную из под снега кость. А когда я шла в баню, становился между мной и водоканальской псиной, которая, увидав Колька, пряталась в будку. Колёк, дождавшись, что я пройду, сам уходил куда– нибудь, и ждал, когда я буду возвращаться, чтобы опять построить псину – водоканалью и не дать ей испугать меня.
– Он здесь смотрящий…– ласково говорил Славка, потрёпывая Колька по загривку.
Славку обожали все без исключения собаки. Вот только в людях он вызывал либо ненависть, либо любовь. В этих эмоциях он не разбирался и просто старался делать больше добра, за что его начинали ненавидеть втрое больше, как выскочку и недобитого энтузиаста.
Уже стала постепенно слезать линялая шкура старого снега, засыпанная угольной пылью, летящей с котельной, когда я решила сходить на западную часть горки и посмотреть на дальний городок Мыски. Я ждала подснежников… Славка обещал мне незабываемое зрелище. Там, под горкой, за стайками, начиналась долинка, где раньше, во времена его детства, «колосился» школьный сад. Теперь всё заросло бурьянными травами и снова рассеялись по густым дёрнам таёжные цветы кандыки , о которых я столько слышала, но никогда не видела. Видимо, рано мы с Кольком пошли проведывать весну. Нераспелёнутые головки кандыков ещё только проклёвывали наст – чарым.
Вдруг Колёк, перебежками, приблизился к самому краю горки на которой мы стояли. Его хвост выпрямился трубой, а на загривке шерсть встала дыбом. Он оскалился и загавкал нетерпеливо и нервно.
– Что там Колёк? – испугалась я и почувствовала, как у меня снизу вверх немеют ноги.
Из – под брошенной на горке серой коровьей шкуры вдруг вылезло такое – же серое существо в мокрой шерсти, от которой источался пар смешанный с запахом старой псины и метнулось к нам. Я, будто приросла к месту, но Колёк рванулся вперёд и сшибся с молодым серым псом, сразу же повалившим его.
Они остервенело дрались лапами, когтями и зубами, а я так бы и стояла, пока не поняла, что Колёк старый и этот, Серый, видимо молодой и сильный, его борет. Я сорвалась с места и побежала прочь, понимая, что сейчас достанется и мне. Навстречу мне бежали от посёлка несколько собак, на зов и лай Колька.
– Тут мне делать нечего! Сами справятся. – подумала я и забежала в подъезд, отряхивая ноги в меховых сапожках от мокрого раскисшего снега.
Но Колёк не победил и его блудная стая , состоящая из пяти убежавших собак, среди которых было три кривоногих и разнокалиберных сучки, в полном составе перешла под власть Серого.
Как только снег облез совсем на пригорках и холмах, обнаружив нечеловеческое количество бутылок под своими девственными пеленами, Колёк, с порванным ухом ушёл жить на свалку и ко мне за едой, на зов, первым стал приходить Серый.
Я гоняла его, стараясь, чтобы Колёк скорее схватил пакет с костями и мясом, но Серый налетал с рыком, гнал Колька, а потом возвращался и сжирал всё на месте, отбрёхиваясь от своих верных сук, которые любили его с человеческим жертвенным пристрастием.
Я горевала и часто видела в окно, как Колёк пытается занять своё лежбище на косогоре, около водонапорной башни, но Серый его оттуда нещадно выживает.
Наш хор дал концерт, посвящённый Дню Победы.
Народу было много, в основном школьники и пенсионеры. Я два раза переряжалась из русского наряда в длинное, винного цвета платье, чтобы спеть в четвёрке лучших. Дочка – первоклассница тоже немного выступила. Но в основном она с открытым ртом любовалась на меня, такую новую и непривычно нарядную в сценическом платье… Сонька ещё осенью приобщилась к хоровому пению и тоже копировала дома всё, что увидела на наших репетициях. Ещё к Сонькиным впечатлениям добавились мои вечерние сказания о скандинавских богах и героях…
После бани, что притулилась на краю холма, на территории водоканала, распаренная Сонька всю зиму устраивала нам со Славкой прелестные спектакли.
Как то она посадила вдоль ковра мягкие игрушки и представила участников хора, крикнув звукорежиссёру Паше на шкаф, что сейчас его прикончит, если он не наладит микрофоны.
Мы садились на ковер.
Начиналось вещание хормейстера Сони.
» Итак…сейчас наш хор Весёлый …нет… озорной Рагнарёк…вам споёт про уголёк!
Участники! Сопрррано.Сова Сиромаха.
Альт : Собачка Брунгильда
Баритон: Волчонок Фенрир
Бас : Петушок…этот, как его…Фьялар…
А тенор медвежонок Локи.
Итак, господа, начинаем.
И Сонька машет карандашом и тоненько поет:
,,это слово каждому знакомо…
Рождено устами горняков…
Глубь земли и каменные комья
Называют нежно : угольком!»
Я смеюсь. Соня останавливает песню хора.
– Так! Озорной наш Рагнарёк что– то нестройно поет. Надо участникам самогону бы плеснуть!
В таких мелких прелестях и крошечных радостях пролетели ужасные сорокоградусные морозы, а весна в Сибири наступила внезапно.
После концерта, в ранних сумерках, я возвращалась домой по Пятому Кварталу посёлка, где жили бывшие начальники и ИТР бывшего шахтового комбината. Соньку забрала к себе свекровь.
Весна ещё не совсем проснулась и пробудила землю, часто налетая ветрами, но уже внутри что-то тяжко поворачивалось, как в той сказке, про оловянные обручи у Ганса на сердце. Эти обручи тоски и ожидания готовы были треснуть.
Недалеко от дома, народ, возвращающийся из ДК, весь разошёлся и я побрела по раскисшей земле, по дворам домой.
Тут и вышла мне навстречу стая Серого.
Я потопталась и остановилась на месте. Серый, понимая, видимо, что я его кормлю, не кинулся сразу, а подошёл, урча и кивая головой, требуя от меня еду.
– Серый, друг, иди – ка ты осюда…И уводи своих гражданок.
Серый заурчал и оскалился, топотнул нетерпеливыми лапами.
– Ну, нет, друг. Так мы не договаривались…– сказала я, и присев, словно потянувшись за камнем, встала и забросив руку, свистнула.
Суки и Серый вздрогнули и опустили головы.
И тут откуда-то из за холма, где в стайках мекали козы и клохтали куры, вылетел Колёк и кинулся на Серого. Они снова сцепились в неразделимый клубок. Суки с визгом налетели на Колька, а я побежала к дому.
От адреналина у меня тукала кровь в голове.
После этого Колёк исчез. Серый со стаей тоже. Я, дрожа, побежала домой ждать Славку со смены.
Мне было жаль Колька до глубины души…Но ничего уже сделать было нельзя. Очистка не делала никаких различий между домашними и дворовыми псами, гребла всех подряд, приезжая таинственно и исподтишка. Но через некоторое время, я увидела пса, которого приняла за Колька.
Муж пошёл на комбинат, разбираться с начальниками по поводу задержанных зарплат для своего звена. Мы припарковались на обочине и я ждала его, глядя на дымящийся терриконник, на вершине которого мотало обугленными ветвями давно умершее дерево. Вдруг, в зеркало я увидела, что по дороге бежит чёрный пёс. Я выскочила из машины даже не закрыв дверь и побежала к нему по грязной обочине, закиданной горельником. Мы бежали друг к другу, из глаз моих выбрызгивались радостные слёзы, как у циркового клоуна.
-Колёк! Дружище! Ты меня нашёл, нашёл! – кричала я и люди на ближайшей остановке странно уставились на меня.
На шее у пса болталась верёвка. Я даже забыла, что в машине у меня спит трёхмесячный сынок…
Пёс кинулся ко мне, стал лапиться, вымазывая мою светлую курточку, когтил её в порыве собачьего счастья…но…это был не Колёк.
Я это увидела почти сразу…ростом меньше, блюдечко белой шерсти на грудке – маленькое…Сын его? Может, хотя бы, сын?
Я обняла пса за шею, потрепала по загривку, он извивался в моих руках и ластился. Я взяла его за лапы и сказала с горя:
– Пойдём. Там у меня булка есть.
И мы пошли к машине кормиться.