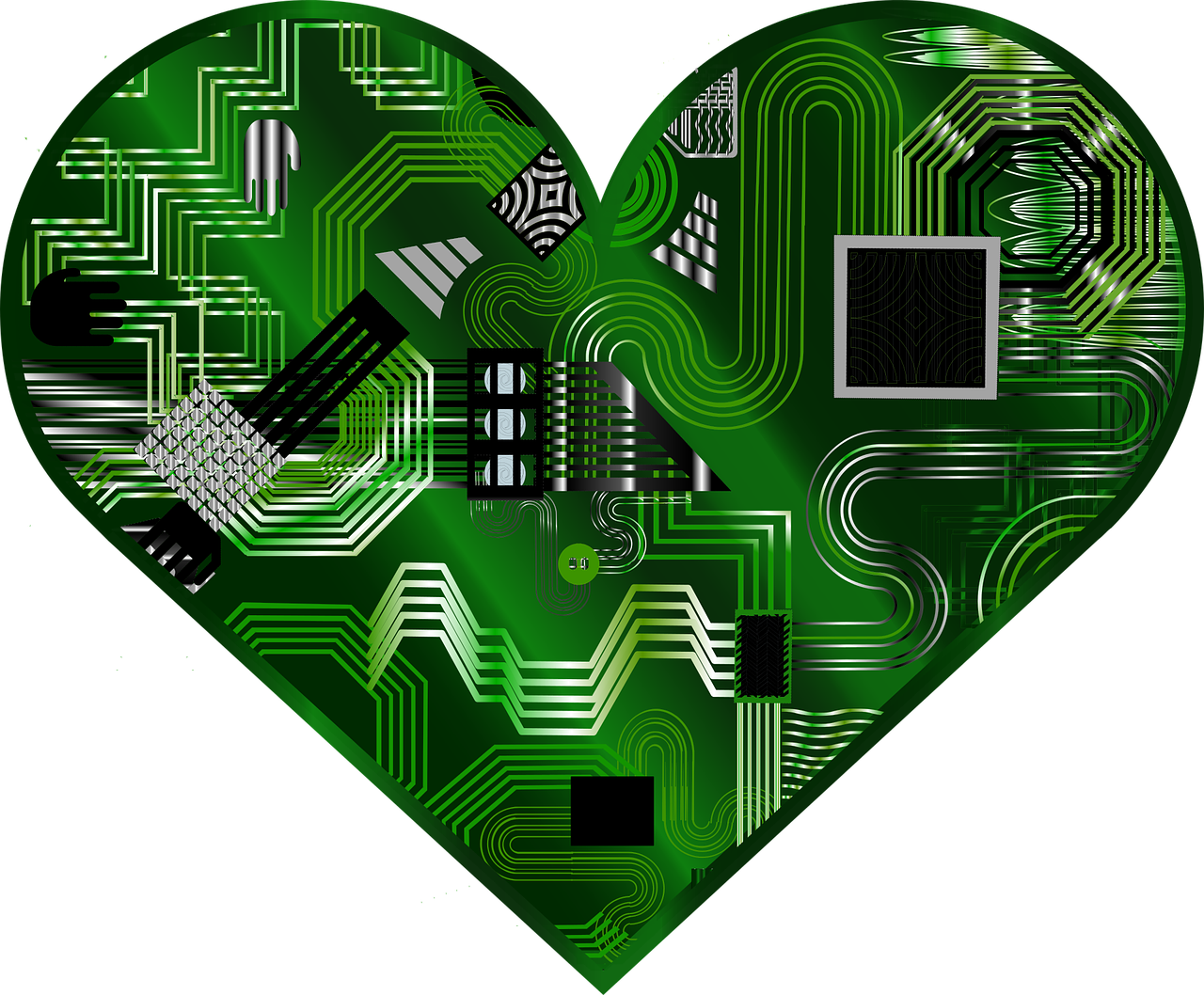— Ты куда сейчас?
— К себе, на Волкова.
Двери автобуса закрылись, и за стеклами в черной рамке резины осталась табличка «ул.Волкова». Юна из автобуса глянула на неё и опустила глаза, почувствовав, что совершила предательство.
В динамике звенел женский голос:
— Чего вздыхаешь?
Юна потянула шарф влево, вправо, повела вниз воротник, а плечи потянула назад – пальто не растягивалось, не ослабляло сжатия.
— Ничего, мам. Не знаю.
«Не по себе, – сказала мысленно, – хреново как-то.»
Где-то в затылке стучала тупая боль не боль – тревога. Причин для беспокойства не было, а беспокойство было.
— Я беспокоюсь за тебя.
— Я тоже.
Справа, прямо под поручнем, сидела женщина. Эта женщина в бесформенном, объемном, синем, сильно и прямо кашляла, овалом раскрывая рот. Рука её подлетала, но не поднималась до рта.
— Я вечером зайду, не теряй пока, – Юна сбросила вызов. Она долго смотрела на женщину в синем, на ее сухие губы, на два крупных зуба под верхней, потом плавно повернула ровное, никакое лицо к стеклу окна, прерывисто вздохнула.
Многоэтажки сменились за окном графикой частного сектора, затем – струнами юных берёз.
— Мне платят триста за выход и два процента от выручки, куда мне дома сидеть? – слышалось позади и справа, – не будет у нас выходных, на что я жить буду…
Стук-стук, ёкнула боль в затылке. Юна «отключилась» от правого уха, сконцентрировалась на левом.
— Я только-только устроилась в этот салон, клиентов наработала, а мне за квартиру платить!
Юна отключила слух вовсе, берёзы замельтешили в окне вперемешку с елями.
На «Линиях» зашли двое в одноразовых голубых масках (Юна видела, как они подошли к автобусу), проехали две остановки без голосов, без характеров, с одними только глазами за белой простроченной тканевой линией. Кроссовки, джинсы по щиколотку, рост за метр семьдесят у него, и длинные русые выпрямленные волосы из-под кепки, пальто-мешок у кого-то второго. Левая рука первого держала правую руку второго.
А рука Юны крепко держала автобусный поручень, ползала по нему вверх-обратно, оставляла влажные пятна.
Тук-тук попросилась боль в виски и без разрешения вошла.
До загородной остановки «Карьер» из пассажиров доехала только Юна, вышла. За остановкой подняла капюшон и поплыла во всех смыслах: март всюду налил, но за собой не вытер, по-ребячьи смешал с водой песок, глину, землю, травку-муравку и чёрт знает что еще.
Поле вызревшей и отсыревшей полыни, за ним – ж/д пути. Юна, глядя на короба товарных ржавых вагонов, вытерла мокрые ладони о пальто, подумала о пальто – его цвете, цене, новизне, и шагнула на щебень. Под вагоном пахло углём – кисло-горько, а сразу за вагоном – свободой.
Ветряная волна ходила по жухлой траве кругами, лужи рябили. Юна достала телефон, смахнула с экрана последние новости («Вирус выявлен у солиста Ram…», «Новые случаи вирусв выявлены в 16 ре…») и сделала фото. Если у нас есть время и силы на фото, у нас всё хорошо.
Облепиха и лох наполнили чашу озера вместо воды. Часть поля пропала под новыми коттеджами справа. А в остальном все было как в детстве, также.
Из-за спины, скорее из-за затылка, вырвалась стая стрижей, устремилась влево, подальше от новых чужих домов.
Из облепихи выбежала серая, как талый снег, кошка и бросилась к домам. Это снег побежал – показалось сначала. Снег и бежал, вниз по дороге, к первым на обрыве избушкам.
Юна нашла рядом с одной – опознавательный куст сирени. Сирень стала больше, дом ниже, Юна бледнее и тоще, всё это случилось лет за десять. Юна толкнула забор двумя руками. Забор сходил туда-сюда, вернулся в исходное положение синхронно со стрижами, ушедшими куда-то за спину.
Найти задвижку где-то там, на ощупь, не удавалось. Удалось перелезть поверх. Прыг. Тук-тук. Кап.
Сначала всё увиделось единым: ржавый замок в петле, выгоревшие мышино-серые доски сарая и дома. Всё на земле тянулось единым полотном: всё было вязанным, стеганным, смешанным. Стебли переходили в прутья, прутья в палки, в стволы, веревки, травинки, остатки. Всё коричневое в рыжее, жёлтое, серое, зеленовато-серое подползало к выгоревшим доскам, голым стволам, скамейкам и переходило в них. А до неба не доставало.
Рыхлый талый снег отощалыми псами лежал под лавкой, под яблоней, за крышкой погреба, у двери. В овальной ванне под рябиной серая снеговая собака купалась – вытянутый ноздреватый ком плавал в прозрачной воде ни туда, ни сюда, на месте. Под сугробом, на дне, лежали коричневые гнилые ягоды.
Где-то завывало и дуло, но где-то за второй калиткой, в огороде. А где-то здесь стучало. Юна обошла дом и побрела на стук, под паутину кленовых пальцев. И нашла.
Под кленом, по старой раковине стучали капли – скромно и тонко. Они тянулись из-под клапана алюминиевого рукомойника по тонкой металлической ножке и падали в ржавую проталину на белой эмали. В рукомойнике плавал кленовый коричневый лист. Клапан держал открытым шарик рябины.
Юна улыбнулась. Вот же оно как! Она потянулась рукой вверх, потом вниз, вниз, опустила её в ледяную настойку на листе и рябине, намочила пальто, намочила рукав рубашки. Рука шла вниз, а влага шла выше, выше по ткани, и где-то между оставался только коричневый лист, прижимавшийся к алюминиевому стакану, к стенке. Когда рука потянулась обратно, лист снова лёг на воду.
Ягода осталась у Юны в пальцах. Но рукомойник продолжил сочиться, тоньше и робче, ножка клапана все также поблескивала и выдавала провал.
Юна оглянулась на дом. Из сарая шевелил усами диван. Усы были соломенные, они неряшливо торчали по всему его лицу, старому, порванному, клетчатому. Юна вспомнила, как боялась прижиматься к нему холодными дачными ночами – диван шуршал, пах сыростью и был не из тех, к кому хочется прижиматься.
Мокрая солома внутри была тяжелой, вытаскивали диван в сарай из дальней комнаты в четыре руки, хотели сжечь, но дали слабину.
Юна долго не решалась зайти, смотрела издалека. Тук-кап.
Чердачное окно сарая свистело целлофаном. Когда-то на чердаке пахло луком и помидорами – теперь явно не пахнет.
Юна зашла через сарай в дом (обошла диван, коснувшись его подлокотника бедром). Боясь найти личные вещи умершего деда, она нашла алюминиевую круглую крышку. Круглая ручка из твердой пластмассы на ней вертелась в пальцах.
Юна подняла клапан. Выпустила воду. Опустила крышку на рукомойник. Клён скинул поверх тонкий сухой палец.
И стук стих. И стало спокойнее.
Теперь никакого желе из ягод ирги в формочках. Никакой картошки с тушенкой в кастрюле на печке из десяти кирпичей. Никакого сладкого молодого горошка, малины с клопами, стола, в который упираются коленки, соснового запаха чердачной лестницы, старых газет и сквозняка в уличном туалете за помидорами, панамки и старых кроссовок-водолазов…
— И ни вод, ни воздуха, не укрыться…
Юна перелезла через забор, подхватила у кадыка сухими ладонями воротник пальто.
А моченая рябина оказалась на вкус как ничто.