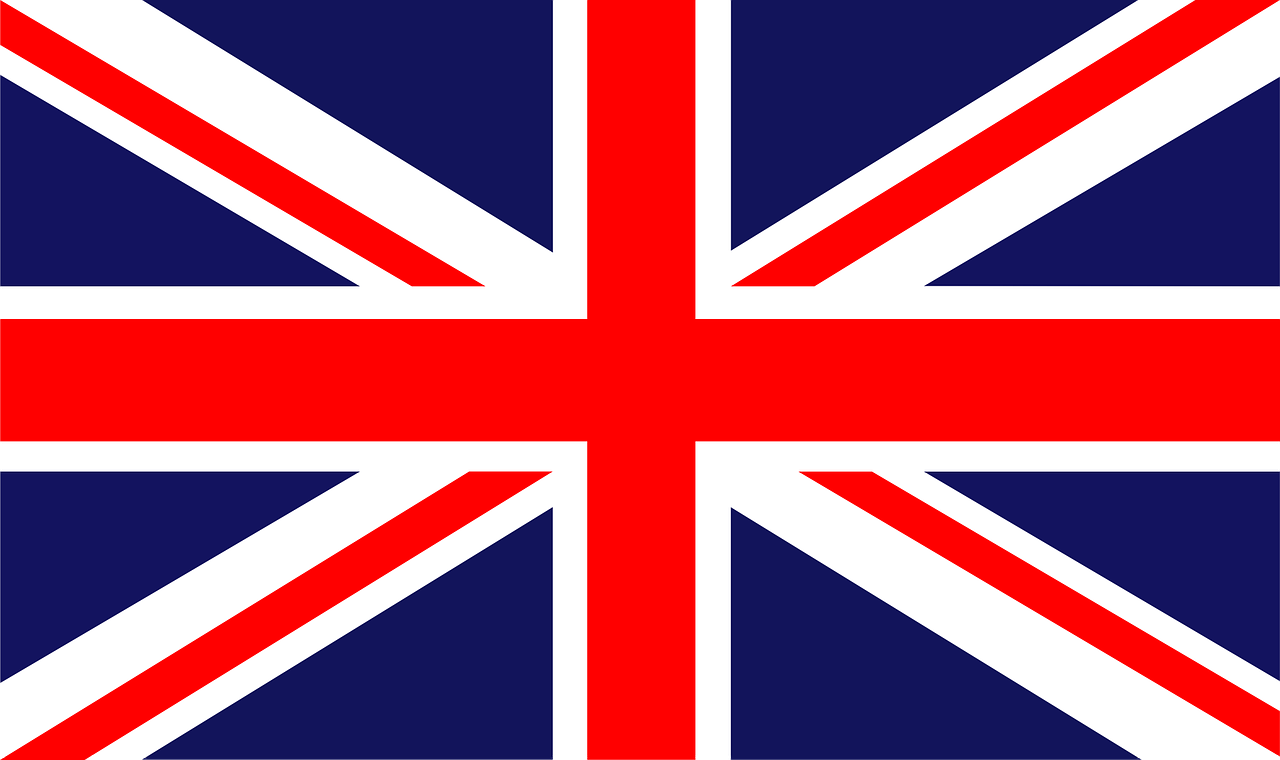Мы случайно встретились сразу после восьмого марта в кафе киевского торгового центра «Дримтаун». Рядом с ее столиком возвышалась стилизация под британскую телефонную будку. Тут же, огражденный цепочкой от назойливых идиотов, стеклянным взглядом вперился в торговый зал красный королевский гвардеец Её Величества в «медвежьей» шапке. На черной доске в красной же кока-кольной рекламной рамке коряво вывели мелом: «Я жду тебя. Твой кофе». Она достала помаду, и я замер в ожидании. Нет. На этот раз — розовая. Я подсел:
— Привет, Аня… как давно не виделись! — и добавил, чувствуя себя болваном, — с прошедшим!
— Ой! Привет! Спасибо, — голос ее стал новым, чуть надтреснувшим, — какими судьбами сюда?
— На курсах… — сказал я правду и сам удивился: какие у них здесь могут быть курсы. — В перинатальном центре. Не в торговом… Ладно, ты как? Рассказывай.
Она не обратила внимания на неуклюжую шутку. Освежив помадой губы, близоруко сощурилась, разглядывая меню:
— Да, да… Горько расставались. Теперь и не верится, что со мной всё это было… что выжила, — она машинально коснулась маникюром маленького поперечного шрама на тонкой шее. — Это тоже в марте случилось… Помнишь? — уголки губ дрогнули. — Ты посидишь немного? Есть время поболтать, пока мои придут из боулинга?
Еще бы. Я хорошо помнил ту кошмарную весну и одно единственное событие, изменившее однажды посреди ночи всю жизнь этой изящной и умной женщины. Мне захотелось узнать всё, что произошло у нее с тех пор, и я кивнул.
С утра сыпал мелкий дождик, превращая снежную манну под ногами в серый хлюпающий кисель. Не празднично выглядели улицы седьмого марта того года. Только в отделении чем ближе к середине рабочего дня, тем оживленнее становились лица медсестер и женщин врачей. Они сегодня с новыми прическами, в полной боевой раскраске ожидали приготовленных заверений в любви. Ароматы лака и духов смешанные с мимозными и салатно-закусочными перебивали больничные запахи в большом зале кафедры хирургии. Женский день. Плановых операций с утра не будет, профессор всё отменил на радость уставшему оперблоку. «Вот это лучший подарок…» — переговаривались сестры.
Нашу Анну Витальевну ожидал в ординаторской шикарный букет алых роз. Она была еще очень молода, работала здесь всего три года. Придя в отделение недавно, я удивлялся заметному контрасту между ее внешностью и поведением. С первого взгляда, всё в ней было удлиненным и одновременно изящным. Высокая, худощавая и стройная. С пальцами пианистки, приятным открытым лицом, чуть с горбинкой греческим носом и минимумом косметики. Густые каштановые волосы спадали до плеч. Манера Анны вести себя с коллегами мало отличалась от присущей большинству суровых мужчин, хирургов и анестезиологов. Не соответствовала она подчас хрупкой внешности. Несколько раз я становился свидетелем таких скандалов и разборок в отделении с криками и угрозами при ее участии, что поражался способностям Анны. Говоря спокойно, она слегка картавила, а когда повышала голос это становилось заметнее.
Мало того, что она превосходила многих мужиков в логике, простой практичности и доказательности, так Анна еще и за словом в карман не лезла. Могла и крепким матом влепить если допекали. Любила нарды и хорошо играла в длинные. Много курила, не отказывалась изредка дернуть разведенного спирта за компанию. Дежурила сутками, как все, и не стонала. Но всё это, к моему удивлению, не огрубляло ее нисколько. Анна всё же умела вносить в наш мужской мирок что-то незаметное, убаюкивающе женственное. Умный взгляд слегка раскосых миндалевидных глаз излучал добрый свет. Когда она находилась рядом, конфликты сами собой угасали. Потом я встречал эти качества у разных женщин анестезиологов и хирургов, но в ней все они удивительно и невообразимо уживались в одной.
Вот так и вижу её, как сейчас. В белоснежном рабочем костюме она сидит в кресле возле огромного букета подаренных роз, уютно поджав под себя ноги. В одной руке бокал с красным, в другой вечная сигаретка в тонких пальцах. Волосы собраны сзади изысканной заколкой. Улыбается всем счастливой улыбкой виновницы торжества. Мы играли в нарды после застолья, и я получил от нее уже два «марса» подряд, ничуть не поддаваясь. С другой стороны игральной доски я с удовольствием наблюдал, как Аня одним ноготком почесывает макушку, озадаченно бормоча: «Вот же бляць…» В третьей партии ей не везло на куши, а я уже завел почти все фишки. Она говорила именно так: «бляць», и это всех умиляло.
Вошел расстроенный Рутберг, наш зав, сообщая на ходу:
— Кому-то придется выйти сегодня в ночь за Петровича. Он только звонил… на похороны уезжает.
Помню, как Аня вызвалась первой, и на наши уговоры отказаться со смехом отвечала:
— Ну вас к свиням… Во-первых, сегодня только седьмое, во-вторых, моего удава не будет до завтра, не хочу одна сидеть перед праздником. Ничего, подежурю. А на суеверия плевать… Первый раз, что ли? — улыбалась она, доставая очередную сигаретку.
Вторым потрясением для меня был ее брак с Петей. «Мой удав», так она его называла. А в минуты веселья — «голд-удав». По фамилии Голдашников, этот Петя был, что называется, типажом. Приземистый качок с черным «ёжиком» на голове и толстенной золотой цепью на крутой шее. Говорил мало и смачно, с правильной распальцовкой для понятности. Иногда он забирал Аню после дежурств на черном мэрсе. Где-то успешно торговал лесом и бензином. Из деликатности мы никогда не спрашивали, как ее угораздило, а всезнающие анестезистки донесли, что вышла по залету после того, как они были дружком и дружкой на свадьбе. Случился у нее на беду выкидыш в позднем сроке, и с тех пор Аня забеременеть не могла, хотя теперь очень хотела. Но это последнее уже для нас не было тайной. На чужих деток она всегда смотрела с нежной тоской и завистью.
Не желая ничего Ане по тем же суеверным, неписанным законам, мы разошлись вечером по домам, а она осталась дежурить за коллегу.
Посреди ночи разбудил настойчивый звонок в дверь. Это приехал за мной сын нашего профессора, молодой хирург. Он взволнованно, скороговоркой объяснил, что нужно немедленно собираться и ехать в больницу. Додежурить до утра вместо Анны Витальевны, потому что у нее случилось осложнение во время наркоза — умерла молодая женщина. Я ошалело продирал глаза, пытаясь это представить, а он тараторил:
— Там примчался ваш заведующий, они закрылись в ординаторской, а меня ответственный хирург послал за вами… У нас уже два аппендицита и грыжа ожидают на очереди!
Через время мы ехали в разболтанном УАЗике по пустому городу и молчали. Дурная мысль застряла и не хотела убираться из встревоженного мозга: «Вспомни о законе парности, жди новой «засады» у себя, и в ближайшее время…» Кто-то другой успокаивал: «…ничего, прорвешься, просто сконцентрируйся, тут до утра осталось всего пять часов. Проведешь аппендициты, всего и делов…». Но снова вылезало скрипучее: «Ну-ну…» Липкая, черная печаль заползала, не спрашиваясь: «Что я о себе? Бедная, бедная Аня… С любым могло случиться, но зачем это сталось именно с ней?.. Больная погибла! А если еще детей осиротила? Хуже ничего и не бывает. Тяжело-то как!.. Есть ли ее вина? Что она должна сейчас переживать? Хорошо, что Эдуард Яковлевич приехал. Он сумеет разрулить. Он мастер. Он – виртуоз. Нет в нашем городе такого врача, и не только анестезиолога, кто бы ни знал и ни уважал его, как профессионала и просто порядочного человека. Непременно Рутберг научит, как вести себя у следователя. Подготовит, что сказать, оформит правильно документацию. Зава-ал! Следствие… А сможет ли он слова найти?.. Для нее. Для родственников».
О чем они говорят сейчас в полутемной ординаторской, разделенные большим столом и зеленой лампой? Скорее всего, пока ни о чем. Аня не может. Она уже отрыдала, теперь только всхлипывает на диване, уткнувшись в подушку. Он сначала обнимал ее за плечи, пытаясь успокоить поток, возводимых на саму себя, проклятий. Теперь он сидит за столом и курит, читает что-то… Похоже, только недавно заведенную, полупустую историю болезни. Он ждет… Наконец она садится и уже может дышать. Сигаретка в дрожащих пальцах долго не попадает в огонек. Он вглядывается в ее опавшее лицо с размазанной по щекам тушью, тихо просит:
— Соберись, Анна… Расскажи мне всё по порядку. До утра мы должны оформить историю болезни, — он старается говорить как можно мягче, глядя ей прямо в расширенные зрачки.
Она сиплым шепотом рассказывает, что это… (она хочет сказать «была», но не может, давится слезами)… женщина тридцати лет, которую взяли на срочную гинекологическую операцию. В анамнезе всё вроде спокойно. Тяжелых заболеваний раньше не было. Анализы в пределах… Давление снижалось, но не сильно. До операции ставился диагноз: внутреннее кровотечение из-за апоплексии яичника. Подготовила ее тщательно, провела предварительно переливание растворов, все обследования, какие ночью возможны, успокоила, как могла. Вводный наркоз прошел гладко. Начала интубацию, быстро ввела трубку, проверила, подключила аппарат. Хирурги попросили подвинуть пациентку пониже. Как только подтянули с сестрой, она заметила, что губы у женщины посинели и поднялось сопротивление в аппарате. Послушала легкие, а там много хрипов и дыхание резко ослабело.
У Анны вдруг прорезывается ее обычный голос, она хочет быть точной до самой мелочи:
— Я решила, что трубка вышла из трахеи, когда двигали! Извлекла трубку, выполнила вторую попытку и вставила ее заново. Правильно вставила! Дальше всё полетело к чертям!! Аппарат не может продышать и начинает гудеть. Из трубки слышны шумы, хрипы! Пошла пенистая мокрота. В легких клокочет… Губы синие, лицо серое, давление снижается, сатурация кислорода тоже сильно упала. Подумала: «Отек легких?.. Но с чего? Очень быстро что-то!.. Неужели аспирация? Ну да, вот она!.. Наверное, в трахею мимо трубки попало содержимое из желудка…»
Она подробно рассказывает Рутбергу, какие лекарства вводились посекундно, что делалось для спасения. Про то, как состояние неумолимо ухудшалось, и через пять минут наступила остановка сердца… Реанимировали женщину вместе с хирургами минут тридцать. Один раз запустили сердце, но потом вновь остановка… и больше не запустили… Аня ждет его ответа. Он молчит, и она спрашивает сама:
— Это синдром Мендельсона? Аспирация была, но незаметная в начале, так?
Он кивает:
— Да, Аня, к сожалению, это он. Я всё понял, и ты тоже. Садись писать, обсудим потом…
Он идет в приемный покой и долго разговаривает с мужем умершей женщины. Возвращается сгорбившийся и постаревший, наливает себе спирта в мензурку. Долго разглядывает ее в руке, но не пьет. Потом протягивает Ане:
— Выпей глоток. Надо.
Она отказывается, вдруг начинает хохотать. Потом хватает и с размаху запускает его пепельницу-ракушку в стену у двери. Окурки разлетаются по полу.
— О-ой! — она пугается сама себя, съеживается в комок, — простите меня, Эдуард Яковлевич!
Рутберг спокойно наблюдает за истерикой. Испуг быстро проходит, и внезапно сменяется яростью. Она уже почти рычит каким-то страшным рыком загнанной в угол дикой самки:
— Р-разбила всё! Разбила жизнь! Знаете, у нее двое детей осталось… Как же?.. Чтоб я издохла, криворукая!! За что им? Проклятый Мендельсон! Простите меня! Как жить? А-а-а!
Они до утра сосредоточенно заполняют карту анестезии, пишут посмертный эпикриз и посмертный диагноз. Ничего не исправить. Молодая женщина лежит мертвая в темной комнате на каталке накрытая простыней. Муж уехал к детям. Операцию сделать не успели. Что это? Несчастный случай, грозное осложнение при интубации — синдром Мендельсона. Даже если его вовремя распознать, своевременно и правильно лечить, умирают семь из десяти пациентов. Ошибка была, и она знает, какая.
Утром Анна сидит на стуле в коридоре кафедры и ждет прихода профессора. Рядом с ней история болезни с ненавистной графой, в которой уже стоят цифры: «Дата смерти: —. Время: —-.» Растрепанную голову обхватили озябшие, прокуренные пальцы. За углом караулит приставленная, на всякий случай, санитарка. Сокрушенные, сочувственные взгляды коллег, бесполезные слова… Подбежала и села рядом дымчато-серая, почти синяя, беременная кошка Гипоксия. Прижилась на кафедре и получила кличку от циничных анестезиологов за окраску. Она всматривается желтым взором в серое лицо врача с тенями вместо глаз. Из них вновь текут слезы. «Что, Гипа, что, кошечка? Хорошо тебе, детки скоро будут… А у той женщины уже не будет деток… Ничего не будет. Нет ее… Гипоксия ее погубила… Я ее убила. Я виновата.»
И снова, теперь уже профессорское: «Расскажите всё по порядку…».
Анна больше не смогла ходить в операционную. Помогала вести реанимационные палаты. Следствие было, Рутберг ездил с ней на все допросы, поддерживал. Реального срока она не получила, дали три года условно. Однажды я встретил Аню в приемном отделении. Она негромко разговаривала с худощавым, хмурым мужчиной лет сорока, рыжим, как Антошка из мультфильма, обращаясь к нему по имени Юрий. Потом я узнал, что это был муж погибшей. Через день она попыталась повеситься, скрутив петлю из бельевой веревки у себя на балконе. Её Питон тогда успел выхватить, но всё же провисела долго. Из-за осложнений Анна две недели пролежала в коме на аппарате в нашем отделении. И выкарабкалась. После трахеостомы остался белый шрам на шее. Рассчитавшись, она исчезла навсегда. Потом говорили, что уехала в другой город, и больше об Анне я ничего не слышал.
— Кофе здесь приличный, закажи себе, — она оглянулась, ища кого-то глазами.
— Коньяк?
Она кивнула. Я принес две чашки американо, коньяк и пирожные. Спросил Анну:
— Расскажи мне, что теперь… где ты?
— Всё в порядке, знаешь… Пригодилась музыкальная школа, теперь работаю аккомпаниатором в театре. Да, поздравь, — она распрямила плечи и посветлела лицом, — я всё-таки родила сына два года назад!
— Неужели?! Ну умница же! Поздравляю, Аня! А Питон, что ж? Доволен?
— Питон уполз жировать на Мальту почти сразу после моей выписки из реанимации. Пишет, живет один, но кролики на пути еще попадаются, — она усмехнулась, отпивая кофе. — Всё равно я ему благодарна… Он меня тогда в отделение после петли и привез. Ну а вы уж потом все расстарались, — она посерьёзнела, — Да, Рутбергу передай привет сердечный и низкий поклон, как встретишь. Не забудь…
Анна вгляделась в конец зала и, заметив кого-то, встрепенулась:
— А вот и наши! Юра!
Обернувшись, я увидел в толпе приближающуюся к нам рыжеволосую группу. Полнеющий мужчина с огненной шевелюрой вёл под руку девочку лет двенадцати. Рядом с ними, улыбаясь и толкая перед собой детскую коляску, шла рыжая девочка помладше. Я заметил, что такие же солнечные волосики выбиваются из-под шапочки у сидящего в коляске мальчугана. Анна, весело сощурившись, наблюдала за моим выражением лица и открытым в немом вопросе ртом.
Почувствовав на себе еще чей-то взгляд, я невольно поднял глаза на королевского гвардейца. Тот по-прежнему стоял истуканом, но теперь безуспешно пытался спрятать улыбку за висящим у его нижней губы золотым подбородным ремнём.