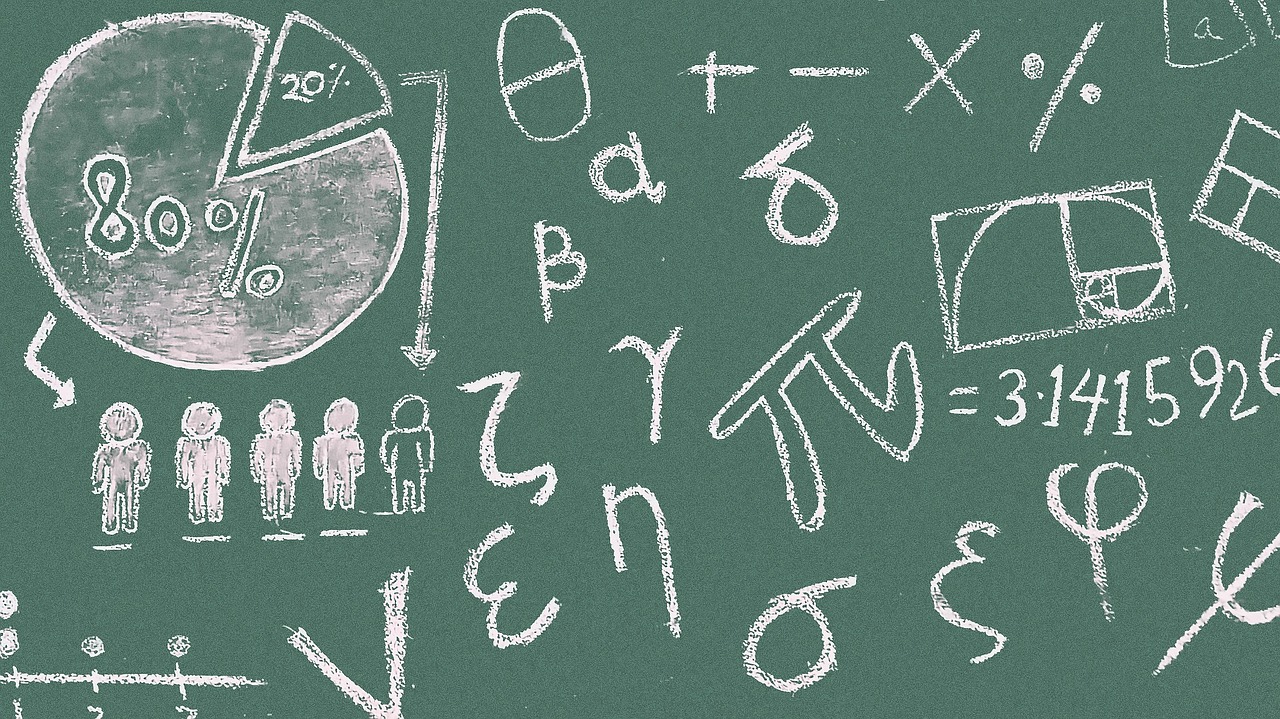В столовой Митька первым делом налетел на незнакомого лейтенанта с красной повязкой на рукаве. На повязку через трафарет белой водоэмульсионкой была нанесена надпись «Дежурный по части». Лейтенант изучал какую-то документацию, и Митька малость растерялся, потому что получил приказ: по прибытии к месту несения службы поступить в распоряжение дежурного по столовой, а про дежурного по части указаний не было.
Лейтенант обернулся, увидел бойца. Момент для отступления был упущен, а потому Митька приложил руку к козырьку и даже набрал в грудь воздуху, но со страху забыл форму доклада.
— Товарищ лейтенант…
— Ну.
— Товарищ лейтенант.
— Ну.
— Товарищ лейтенант…
— Чего тебе, воин? — осведомился офицер раздражаясь.
— Я в наряд из первой роты, — объяснил Митька не по Уставу.
— Фамилия? — спросил лейтенант.
— Назаров.
Лейтенанту было недосуг воспитывать недотёпу, и, отмахнув рукой, он скомандовал:
— К дежурному.
— Есть! — с облегчением ответил Митька и устремился.
У каждого человека есть сокровенная мечта. Рядовой Назаров, мечтал попасть в наряд на кухню.
Тут дело в следующем.
В учебную часть Митька прибыл в начале июня, и на исходе первой недели с некоторым удивлением осознал, что армейская жизнь вовсе не так тягостна, как о ней говорили бывалые ребята на гражданке. Подъем в шесть утра – чепуха, дома он поднимался в пять, чтобы выгнать скотину в стадо. Бег два километра – да бросьте, он и подлиньше концы заворачивал. Подтянуться десять раз – пожалуйста, хоть пятнадцать. А что ноги в сапогах, так в деревне шесть месяцев в ходу кирза, полгода – валенки.
Всерьез расстраивал Митьку, только сверхскоростной прием пищи.
Завтрак ладно, чего-нибудь в топку кинул и хорошо. Но, братцы мои, где ж это видано, чтоб обед сметать за минуту! Обед для трудового человека неприкасаем, он всему голова, спешки не терпит. Обедать следует вдумчиво, со смыслом. А тут что?
Запах в столовой не так чтоб очень аппетитный: малость подгоревший, чуть кисловатый, однако на голодный желудок сойдет. Запустят роту в помещение, а там уж сервировано: миски расставлены, ложки разложены. На каждом столе по два походных бочонка, один с первым блюдом, другой со вторым. В железных кружках компот.
Рота рассаживается по шестеро. На столах, помимо приборов, по два ломтя хлеба на каждого едока: ломоть белого и ломоть ржаного.
За отдельным столом размещается сержантский состав. Сидят унтер офицеры, в зубах ковыряют. Уже отобедали.
Тут встает товарищ старший сержант Мироненко и подает команду:
— Раздатчик пищи, встать!
Соответствующий солдатик отрывает зад от скамеечки, берет в руку черпак. Прочим положено в это время смирно сидеть и дышать не шибко.
— Раздатчик пищи, пищу раздать!
Снимает раздатчик крышку с пятилитрового котелка, оттуда пар горячий. Каждому солдатику в алюминиевую миску кладет по черпаку кислого варева. Суп или щи – не разобрать, а товарищ старший сержант продолжает подавать команды:
— Рота! К приему пищи приступить: я попил, а вы поели! — и прикладывается к кружке с компотом.
Бросаются солдатики ко щам, к супу ли, да куда там… Горячо! Смысл же команды товарища старшего сержанта в том, чтобы все съесть, покуда он компотом заправляется. Потому, как только допьет товарищ старший сержант компот и кружкой об стол припечатает так, чтоб звон пошел по всему помещению, тут снова полетит команда:
— Рота! Закончить прием пищи! На выход! Строиться!
Кто поумнее, тот давно смекнул: пока у товарища старшего сержанта компот не вышел, надо кусок белого хлеба в жижу обмакнуть, в рот затолкать и компотом запить. Вот и обед. Второй кусок хлеба лучше на столе оставить, поелику проносить пищу в казармы запрещается во избежание антисанитарных условий существования личного состава, и, если кто придумал второй кусок хлеба утаить и вынести из столовой в кармане, тому лучше мысль эту дурную из головы выбросить.
Но знают об этом не все, и Митька тоже не знал. Оставить на столе краюху ржаного хлеба, это ли не кощунство! Ну, Митька сунул ее в карман, про запас. Иначе разве можно?
Только товарищи, сидевшие с ним за столом, чего-то забеспокоились. Как увидали, что он хлеб в карман сует, разом ощерились, глядят на него волками и шипят сквозь зубы:
— Положь хлеб.
— Чего это? — удивился Митька.
— Положь на место, шкура! — ругаются они вполголоса.
— Вот еще, — ощетинился Митька.
— Ну, попляшешь, сука, — пообещал один.
И тут как гром среди ясного неба:
— Рота! Закончить прием пищи! На выход!
И разом полтораста людей ринулись в одну калитку. Ломятся солдатики на построение, и Митька со всеми. Кто последним выйдет, тому наряд вне очереди. Давка в дверях, поспешай, хлопцы!
Только выскочил на простор, ан кто-то хвать его за шиворот, да из толпы вон. Ошалел Митька, ничего понять не может. Чуть пришел в себя, глядь, а держит его за шкирку мордатый ефрейтор по фамилии Кавунов. Одной рукой над асфальтом приподнял, и рассматривает, будто Митька не человек, а кусок анализа.
— Постой-ка, боец, — рычит страшный унтер. — Что это у тебя в кармане? Хлебушек, так.
Рядом товарищ старший сержант Мироненко стоит.
— Что ж ты, голубь, приказы командования не исполняешь? — интересуется товарищ старший сержант, а сам горько головой качает. — Фамилия?
— Назаров, — лепечет Митька.
— Какой взвод?
— Третий.
— Отделение?
— Первое.
— Ясно, — говорит товарищ старший сержант. — Ну, гуляй пока.
Отпустил его мордатый, поплелся Митька в строй. А что гулять было велено, так это пустой звук. Гулять в учебной части никому не выгорит даже при большом желании, и до самого отбоя Митька жил в строгом соответствии со строевым Уставом и распорядком дня. Тут тебе и строевая подготовка, и рытье окопа полного профиля, и преодоление полосы препятствий, а после скоростного ужина прогулка строем с распеванием боевых песен для бодрости духа. Уходит рота в закат, лупит каблуками остывающий плац и в сотню глоток орет: «Стюардесса по имени Жанна! В рот ебётся и в жопу желанна!».
Веселое мероприятие.
Потом ужин и бегом марш в расположение. Форму грязную, пыльную долой. Зубную пасту на щетку выдавить, мыло из тумбочки прихватить.
— Третий взвод! В сортир бегом марш! К гигиеническим мероприятиям приступить!
В развевающихся черных труселях, в синих майках-алкоголичках бегут молодые бойцы в сортир, кирзачами на босу ногу громыхают. Тридцать человек во взводе, десять дырок в полу, пять минут на отправление естественных надобностей. Мало? А сколько ж вам надо? Пять взводов в роте, по пять минут каждому, вот и считай. Пять минут – это по-божески, если не тянуть кота за принадлежность. Кто опростаться не успел, тому всю ночь излишки жидкости в нутре держать. Особо щепетильные после рытья окопов норовят уши вымыть, шею себе намылить, но это зря. Не успеют. Умывальников тоже десять и всем охота натруженную выю под холодную струю подставить, так что не стоит и пытаться. В субботу будет баня и парко-хозяйственный день, тогда очистишь тело и душу. А сейчас торопись, солдат, тем более что время вышло, и товарищ старший сержант подает следующую команду:
— Третий взвод, закончить гигиенические мероприятия! В расположение бегом… марш!
И от себя ласково добавляет:
— Давай по гнездам, орлы, шевели копытами.
Этот марш-бросок самый за день желанный. Прогремели солдатики сапогами, в расположение прибежали и по койкам.
Свет разом гаснет по всей казарме.
— Рота! Отбой!
Слава те господи. На сегодня все. Отстрелялись. Закрыл глаза Митька и тихо поплыл в сладкую негу. Уплыл, однако, не далеко. Получаса не прошло, врубился свет в расположении, и гром команды разметал первый нестойкий сон:
— Третий взвод, первое отделение! Подъем! В сортир бегом марш!
Митька с верхнего яруса прыгнул прямо в сапоги и помчался выполнять команду.
В сортире товарищ старший сержант Мироненко застыл в полной амуниции. Велик старший сержант. Несокрушим и всесилен. Рядом с ним стоит каланча-ефрейтор. Торчат перед ними молодые бойцы, как бройлеры перед закланьем. Головенки лысые на шейках тонких покачиваются, глазами сонными хлопают.
— Отделение! Равняйсь! Смирно! — гаркнул ефрейтор.
— Товарищи солдаты, — обратился к бойцам старший сержант. — Сегодня во время обеденного приема пищи рядовой Назаров был задержан при попытке выноса части довольствия за пределы столовой. Командование с пониманием относится к потребностям рядового Назарова и потому решило премировать его целой булкой хлеба. Рядовой Назаров!
Только теперь сообразил Митька, что толкует сержант натурально о нем, о Дмитрии Викторовиче Назарове. И потому, услышав свою фамилию, строго по Уставу тявкнул:
— Я!
— Выйти из строя!
— Есть!
Сделал Митька два шага вперед. Мироненко протянул ему ржаной кирпич и говорит:
— Держи, боец. Заслужил. Теперь садись на очко и ешь.
Такой приказ Уставом не предусмотрен, и потому Митька понял его не очень хорошо. Точнее сказать, совсем не понял и решил, что надо прояснить задачу простым вопросом:
— Как?
А ефрейтор ему:
— Хуяк. Жри хлеб, сука!
И затрещину по холке – шлеп! Это вам не мамкин подзатыльник, это ефрейтор Кавунов руку приложил. Взлетел Митька на очко соколом, сел орлом и робко откусил от задеревенелой булки. Старший сержант посмотрел на него как-будто даже с умилением, а ефрейтор тем временем говорит:
— Отделение! Упор лежа принять! Отжимания на счет раз-два начи…най! Раз-два. Раз-два. Раз-два… Отжимаемся, пока Назаров не доест хлеб до последней крошки. Раз-два! Раз-два! Раз…
Пот холодный пробил Митькин организм.
— Товарищ сержант, можно воды? Не разжевать…
— Молчать! — рычит Кавунов. — Жри хлеб, сука! Раз-два! Раз-два! Раз-два! Раз-два! Гидранович, пряжка касается пола! Раз-два! Раз-два!
— Медленно ешь, сокол. Видать, не жалеешь своих товарищей, — сокрушается старший сержант.
— Раз-два! Раз-два! Раз-два! Раз-два! — чеканит ритм ефрейтор. — Кто устал, тот будет жрать хлеб с Назаровым. Раз-два, раз-два!
Пыхтят бойцы, отжимаются. Руки дрожат, лица красные, вены на висках вздулись. Сидит рядовой Назаров, рвет зубами черствый ржаной кирпич. Твердая корка на зубах скрипит, во рту пересохло, ни разжевать треклятую булку, ни проглотить.
— Товарищ сержант, – пф! – можно вопрос? — пыхтит солдатик с полу.
— Можно Машку за ляжку.
— Виноват – пф! Товарищ сержант, разрешите вопрос.
— Ну.
— Разрешите, мы объясним рядовому Назарову – пф – в чем он не прав.
— Интересное предложение, боец. Фамилия?
— Рядовой Кириченко – пф…
— Отделение! Встать.
Поднимаются воины с пола. Рады бы сначала упасть, полежать малость, дух перевести. Нельзя. После ускоренной вечерней оправки в сортире полы еще не мыты. Поэтому встают солдаты, на Митьку поглядывают со значением.
— Отделение… Равняйсь! Смирно! Кто желает провести с рядовым Назаровым воспитательную беседу о недопустимости нарушения приказов командования?
Девять глоток ему в ответ:
— Я!
— Что ж, хлопцы, добре, — посмотрел на часы. – Я, значит, отлучусь минут на пять, дневального проверю, а вы тут чтоб тихо мне. Без нарушений тишины и порядка, бо ваши товарищи спят давно. Как вернусь, так побегите по койкам.
И вышел вместе со своим цербером.
Иной может и сглупил бы, но Митька знал, что такое коллективное воспитание, а потому мысли о сопротивлении отринул, как вредоносные. Он швырнул ненавистную буханку в того самого Кириченку, и пока сослуживцы наблюдали за ее полетом, скатился кубарем на пол, свернулся эмбрионом и прикрыл голову руками. Знал Митька, что бить лежачего интересно только, если ты его повалил в честном бою. Если же противник лег собственной воле, то битие особого азарта у людей не вызывает. Потому попинали товарищи Митьку минут пять для острастки и спать отправились. А Митька проверил зубы (оказались все на месте), высморкал кровавые сопли, заплевал раковину красным и поплелся в расположение, пугая по дороге дневальных распухшей личностью.
Утром на построении командир роты майор Беляков заметил безобразие на Митькиной физиономии.
— Что с лицом, рядовой? — осведомился майор Беляков с отеческой заботой. — Откуда у вас побои?
Митька строго по Уставу объяснил:
— Эфа ы фавои. Эфа я вчева с вефницы упау.
— С лестницы, значит… — проворчал Беляков. — Как фамилия?
— Навароу.
— Два шага вперед, солдат.
— Ефть!
— Кру-гом!
Митька развернулся лицом к строю товарищей, а майор Беляков говорит:
— Вот, товарищи бойцы, полюбуйтесь, до чего доводит излишняя поспешность. А ведь ваши жизни сейчас принадлежат не вам, а нашей великой Родине. Поэтому приказываю беречься для воинских подвигов. По лестницам ходить аккуратно и строжайше соблюдать воинскую дисциплину. Доступно объяснил?
— Так точно! — грянул хор.
— Встать в строй, рядовой. После развода приказываю посетить санчасть на предмет обследования скрытых внутренних повреждений.
— Ефть! — ответил Митька
Глядят молодые воины на своего товарища и накрепко усваивают нехитрую армейскую науку: хлеб из столовой не выносить. Во избежание. Но прибывает пополнение в учебную часть, и вновь у столовой слышатся горькие слова товарища сержанта: что ж ты, голубь, приказы командования не выполняешь! Фамилия? Взвод? Отделение? Ну, ступай пока.
Митька законы солдатского быта усвоил слету, но сам в воспитательных беседах с провинившимися товарищами не участвовал: не дело это – одного толпой воспитывать. Один на один можно или стенка на стенку – это по-мужски. А пинать лежачего Митька брезговал, да и сил не было после отжиманий. Однако главный армейский урок усвоил накрепко: что урвал – то твое, а не успел – не взыщи.
Голодать рядовой Назаров начал через неделю. И хотя дома ел не намного больше, отчего-то в армии голод крутил нутро особенно остро. Дом он и есть дом. В деревне всегда можно чего-то раздобыть, особенно летом. Грибов ли наберешь в лесу, карася ли из речки вытащишь, картошки ли в углях запечешь, а то просто краюху сольцой присыплешь и готова еда.
Солдату на довольствии добывать вроде ничего не надо, чай дают так даже с сахаром, а голод не отпускает. Бежишь утренний кросс, в животе кишка кишке бьет по башке, и легкость в организме необыкновенная. Стал Митька делать, как все умные люди делают. Сначала залпом выпивал компот, потом обмакивал белый хлеб в тарелку и по команде «на выход!» рвался к свободе, дожевывая мякиш во время борьбы с товарищами. И всякий раз, когда он устремлялся на прорыв к выходу, сердце его разрывалось в клочья при мысли об оставшейся на столе наполненной щами алюминиевой миске. Она не давала покоя, приходила во сне и мерещилась в сладких грезах. Кислый запах столовой преследовал его во время чистки личного оружия и маршировки на плацу, при подшивании свежего воротничка и надраивании расположения в ночном наряде. Если бы в его жизни не было этого не съеденного продовольствия, если бы он видел только хлеб с компотом, не так страдала бы юная душа. Но висела перед Митькиным носом метафорическая груша, которую нельзя скушать, и превращала жизнь в мучительное испытание.
А еще как-то раз поразила Митьку невозможная догадка. Ведь если полный обед успевают схарчить только сержанты с офицерами… Это что же, товарищи, получается! Это сколько ж, значит, продуктов сбрасывается в отходы! Сто пятьдесят человек в роте, три роты в батальоне, три батальона – полк! Чуть не две тысячи бойцов каждый день не съедают первое и второе. Куда же столько еды уходит? Бойцы голодают, а продовольствие коту под хвост? Да ведь это вредительство!
Разум противился, не желал признавать эдакую жуть реальностью. Сначала Митька утешался тем, что, наверное, не все знает и потому чего-то не понимает. Ну, не может быть, чтобы такое богатство уходило в помои. С другой стороны, чего там знать-понимать, если он сам видел, как дежурные по столовой сгребают нетронутый провиант обратно в бачки. Воля ваша, а тут страшная тайна, недоступная рядовому бойцу учебной части.
С той поры Митька мечтал о ночном наряде по кухне. Расчет его был прост: сгребут дежурные остатки пищи в бачки, а он тут как тут. Неужели не будет у него шанса запустить ложку в эти сказочные закрома? Уж он своего не упустит, натрескается армейских кислых щей, чтоб хватило до дембеля. Это, во-первых. А во-вторых, интересно же. Вдруг получится узнать, куда уходит солдатский рацион.
Вот и улыбнулась Митьке судьба.
Вообще-то третий взвод заступил в наряд по роте, и только рядовому Назарову было велено прибыть в столовую для усиления первого взвода. У них с утра трое бойцов, не подумавши, утолили жажду сырой водой, и к обеду оказались в санчасти с нехорошими симптомами, препятствующими исполнению воинского долга. Потому Митьку отправили в столовую в качестве подкрепления понесшим потери товарищам.
Вошел рядовой Назаров в столовую и сходу нарвался на незнакомого лейтенанта.
— К дежурному! — отмахнулся тот.
— Есть!
Было ровно шестнадцать ноль-ноль, свет в обеденном зале не горел. Через широкие окна в просторное помещение столовой пробивался летний день, но внутри сникал, рассеивался, и столы в дальнем приделе терялись в неуютном сумраке.
Не успел Митька сделать пяти шагов, как увидал высокого прапорщика с унылой физиономией. На рукаве у него была повязка с простой и понятной надписью «ДЕЖУРНЫЙ». Прапорщик был немолод, имел короткие усы с проседью, оттопыренные уши и огромные жилистые руки, поросшие рыжеватым мехом. Кителя на нем не было, рукава рубашки закатаны до локтя, а под мышками расползлись белые разводы. Пахло от прапорщика табачным перегаром и потом.
Увидав солдата, он повел мощной бровью и спросил:
— Ко мне, ля?
Митька не знал, но на всякий случай ответил:
— Так точно! Рядовой Назаров прибыл.
— Как звать, йоптаэть? — осведомился прапорщик, разглядывая Митьку, будто он блоха на сапоге.
— Рядовой Назаров, — неуверенно повторил Митька, памятуя, что имя ему по сроку службы еще не положено.
— Зовут как, йоптаэть? — переспросил прапорщик. — Имя есть, ля?
— А… Так точно, — Митька позволил себе улыбнуться. — Дмитрий.
— До шестнадцати ноль-ноль завтрашнего дня поступаешь в мое распоряжение, Назаров. Понял, йоптаэть? — уточнил прапорщик.
— Так точно.
Прапорщик еще раз смерил взглядом неубедительную Митькину фигуру и неожиданно спросил:
— Жрать хочешь?
Сначала Митька растерялся. Полтора месяца никто не интересовался, чего он хочет, а тут первый встречный прапорщик держит себя отцом родным. Нет ли тут подвоха? Но лицо у прапорщика было честным, и Митька ответил как есть:
— Так точно. Хочу.
— Будешь хорошо служить, ля, дам рисовой каши.
— С сахаром? — уточнил Митька.
Прапорщик подумал и ответил:
— Она сладкая, йоптаэть. На сгущенном молоке.
От этих слов вскружилась голова, в ушах у Митьки раздался малиновый звон, и ангельские голоса запели что-то божественное. Дело в том, что сгущенку он ел два раза в жизни. Однажды прислал двоюродный брат, служивший летчиком на далеких северах, а второй раз привезла сестра из Ленинграда, когда не поступила в институт. Помимо сгущенки она еще привезла связку зеленых бананов, но даже невиданный заморский фрукт не поколебал Митькину уверенность в том, что сгущенка – это самое вкусное, что он пробовал за восемнадцать прожитых лет. Сгущенка была несбыточной мечтой, сладкой грезой, небывалым подарком судьбы. И стало горько Митьке, от того, что издевается над ним прапорщик с честным лицом. Потому что, кому же в ум придет сгущенку в кашу вываливать. Ее, милушку, полагается зачерпнуть нежно и замереть, созерцая в тихом восторге, как через край стекают с ложки, ложатся мудреным узором на белое поле и тут же сливаются с ним две тонкие нити. И лишь убедившись, что ни полкапли не упадет мимо, следует зажмурить глаза, положить на язык вязкую сладость, и потом размазывать ее языком по нёбу, всем нутром, всей душой своей впитывая невыразимое блаженство. Сгущенку даже чаем запивать грешно, а вы говорите, в кашу. Шалишь, брат, кашу на сухом концентрате приготовить можно.
Вслух Митька ничего не сказал, а про себя решил, что доверять прапорщику больше не станет. Дежурный, впрочем, произошедшей перемены в настроении рядового Назарова не уловил и добавил:
— Два условия, йоптаэть: работай на совесть и не воруй, ля. Не будешь воровать, накормлю от пуза. Понял, йоптаэть?
— Так точно, — ответил Митька, — понял.
— Замечу, что тыришь продукты, ноги вырву, ля, спички вставлю, на суде скажу, что так и было, — слово «было» он произнес с ударением на второй слог. — Понял, йоптаэть?
— Так точно, понял.
— Молодец. Давай за мной, йоптаэть.
Не торопясь, прапорщик двинул в сумрачное нутро столовой, а Митька пристроился у него в кильватере. Они миновали темный коридор, дважды повернули и вышли в плохо освещенный зал, выложенный белой плиткой. В нос Митьке ударил прелый аромат гнилого лука и плесени. Тусклый свет одинокой лампы плыл по белому кафелю, навевая нехорошие мысли о морге. Вдоль стен стояли металлические стеллажи, на которых в беспорядке разместились картонные коробки и деревянные ящики. В воздухе висел туман, было душно и почему-то холодно. В центре странного помещения расположилась металлическая емкость квадратной формы, похожая на снятый с грузового автомобиля кузов, только поменьше. По периметру кузова на скамеечках сидели, сгорбившись, полтора десятка воинов. Они брали из емкости картошку, чистили и скидывали в алюминиевые кастрюли циклопических размеров.
Прапорщик обшарил глазами личный состав, потом гаркнул:
— Замалтдинов, йоптаэть!
Из тумана вынырнул короткий ефрейтор на кривых ногах, но с белозубой улыбкой.
— Тута!
— Филонишь, ля, — беззлобно ругнулся прапорщик. — Выдай бойцу личное оружие.
— Момент!
В следующую секунду в руках у Митьки оказалась картофелечистка с красной пластиковой рукоятью. Ефрейтор хлопнул его спине и спросил:
— Каритошику видишь?
— Так точно, — ответил Митька.
— Переступай! — скомандовал Замалтдинов.
Митька присел на свободное место, запустил руку в картофельную гору, ухватил три клубня и приступил.
С этого момента жизнь Митькина утратила четкость и перспективы. Он даже не предполагал, что такая картошка существует в природе. Казалось, что наполовину она состояла из гнили, а на вторую половину из грязи. Из этого отвратительного месива он извлекал твердые фракции, обтирал их руками и лишь затем счищал ошметки кожуры, добывая съедобные остатки. Разглядеть что-либо в туманном полумраке было тяжело. Митька пытался рассмотреть результаты своего труда, но глаза не желали привыкать к, светящемуся голубоватому холоду. Афганка быстро отсырела, манжеты стали скользкими и лоснились, будто их натерли салом. От траурного освещения, гнилого запаха и напряжения у Митьки расстроилось зрение. Контуры стеллажей стали резкими, а кузов с картошкой наоборот расплывался, превращаясь в черно-серую бездну. Кожа на руках стала морщинистой и рыхлой. Ноги промокли и промерзли. От холода Митька вздрагивал, постукивал зубами. Он не понимал, сколько времени прошло, а ребята от его вопросов отмахивались, потому что часов ни у кого не было. Желудок подсказывал, что пора бы отужинать, но прапорщик не появлялся, а задавать вопросы унтеру Митька не решался.
Рядом с ним сидел худой угрюмый паренек с эмблемами связи. У него в ногах стояла пятилитровая жестяная банка из-под томатной пасты, в которую сообразительный боец налил воду. Паренек опускал картошку в банку, полоскал ее в мутной жиже, а потом счищал остатки шелухи.
Митька ткнул его локтем в бок.
— Слышь, ты где банку взял?
— Там уже нету, — ответил тот равнодушно.
Помолчали.
— Слышь, а что, на ужин картошка будет? — возобновил беседу Митька.
— Будет, — хмыкнул тот иронически.
Митька уловил скепсис, но решил, что было бы неплохо поднять обоим настроение какой-нибудь жизнеутверждающей мыслью.
— Здорово. Мне перловка в глотку не лезет. Я ее туда, а она обратно.
— Во придурок, — покачал головой связист. — Картошка для офицеров.
— А… — протянул Митька.
От картофеля его неожиданно оторвал ефрейтор Замалтдинов. Он выкрикнул пяток фамилий, и погнал небольшой отряд сквозь туман, через горячий цех в моечную. Там в четырех чугунных ваннах плескалась вода ядовитого цвета. По запаху Митька определил, что вода окрашена горчицей. Посуда непрерывно поступала в комнату по самодвижущейся ленте. Ее принимал и сортировал узкоплечий солдатик, похожий лысую на девушку. Отработанными движениями он ловко сбрасывал с подносов алюминиевые миски, отправляя их в одну ванну, ложки и кружки летели в другую, в третью с грохотом валились подносы.
Митьку определили к ванне с подносами. Сначала он обрадовался: вода была горячей, он быстро согрелся. С особым тщанием удалял он жир с донышек, возил увесистой губкой по бугристым краям и перекидывал гремящие прямоугольные листы в четвертую ванну на предмет полоскания.
Время шло. У Митьки затекали ноги, ныла спина, но разогнуться, размяться не было решительно никакой возможности. Посуда текла сплошным потоком, не давая мойщикам ни минуты роздыху. К горчичному духу примешивался запах еды, в желудке немилосердно лютовал страшный голод. Как на грех, Митька вспомнил обещанную прапорщиком рисовую кашу на сгущенном молоке, и в животе стало совсем нехорошо. Это не служба, а издевательство, две тысячи человек ужинают, а он вкалывает, как проклятый, и мечтает о несчастной тарелке рисовой каши.
Он давно избавился от ремня и кителя, утирал подолом майки потное лицо. Постепенно горчичный дух стал резать глаза, в носу защипало, в горле запершило. Руки покраснели, ядовитая вода обжигала ладони, саднила заусенцы у ногтей. Митька чихал и кашлял. Сейчас бы стакан молока, пусть не сгущенного, а обычного парного. И умыться, как следует, а то кожа горит на щеках и веки, кажется, опухли.
Посуда пошла валом. Митька уже не старался отмыть жир, просто полоскал подносы в жгучей воде и отправлял в соседнюю ванну, и все равно не справлялся с гремящей лавиной. В окно приемки все время кто-то кричал:
— Подносы!
Тогда Митька брал стопку, сколько мог вынуть из воды, сливал воду и передавал дальше без всякого мытья. Внезапно прямо у него над ухом раздался громовой голос прапорщика:
— Замалтдинов, йоптаэть! Замалтдинов!
Улыбчивый татарин вынырнул из тумана:
— Тута!
— Ты что смену не даешь, сукин сын! — заорал прапорщик. — Уморить хочешь хлопца? Мухой смену давай!
— Момент! — браво ответил ефрейтор и скрылся в тумане.
Тут же из глубины донеслись обрывки его команд, через минуту кто-то хлопнул Митьку по плечу и сказал:
— Пусти.
Митька подвинулся, его место занял длинный парень с острым носом. Кто-то взял его плечи, развернул, заглянул в лицо и сказал:
— А ну, боец… Ох, йоптаэть. Умываться, живо.
На его шею легла твердая ладонь и увела через туман из грохота и горчичного угара. Митька оказался над раковиной, в которую из медного крана текла холодная вода. Он стал промывать глаза и полоскать рот. Набирал воду в сложенные лодочкой ладони и опускал в нее разгоряченное лицо.
— Полегчало? — участливо осведомился прапорщик.
Митька кивнул, вытерся подолом майки, натянул афганку.
— У тебя что, ля, аллергия?
Митька пожал плечами.
— Давай взад, на картошку, йоптаэть.
— Мне бы перекусить, — жалобно вставил Митька.
— Не время, боец, — сурово осадил его прапорщик. — Солдат советской армии должен что? Стойко переносить тяготы и лишения. Так что руки в ноги, и чтоб не филонил мне. Потом кашей накормлю, йоптаэть.
— На сгущенке? — уточнил Митька.
— На сгущенке.
Митька не хотел ссориться с прапорщиком, но голод и обида пробили маленькую брешь в его солдатском самосознании, и он робко спросил:
— Разве кашу делают на сгущенке? Ее делают на молоке.
Прапорщик сосредоточенно почесал усы.
— А сгущенка тебе что, йоптаэть, моча ослиная?
— Так это сколько сгущенки надо, — увереннее возразил Митька.
— Сколько надо, столько и возьмем, йоптаэть, — заверил его прапорщик. — Ты откуда сам?
— С Левокумки, — ответил Митька.
— Это где?
— Ставропольский край.
— У вас там что, сгущенки нет?
— Почему нет… — обиделся Митька. — Есть.
— Вот и не бзди, — укрепил прапорщик пошатнувшуюся веру. — Сказал, накормлю, значит, накормлю, йоптаэть. Всё, давай мухой на картошку, и так не успеваем ни хера.
Митька вернулся в морг к пустеющему кузову. Но с картошкой снова не заладилось, потому что ефрейтор Замалтдинов погнал его на разгрузку машины. Выйдя из здания столовой, Митька отметил, что сумерки уже сгустились, а значит, время близится к десяти вечера. Тяжелые ящики подавали из кузова двое бойцов, а Митька и еще трое принимали их снизу и через темный коридор тащили в просторную подсобку, заполненную разнокалиберной тарой.
Когда ящики в машине закончились, Митькины руки висели плетьми, а ноги подрагивали от усталости, но двадцать ящиков тут же потребовалось перетащить в другое помещение, и снова пришлось собирать в кулак остатки сил и воли.
Едва волоча ноги, пыхтя, он почти волоком пёр последний ящик и думал о том, что мечта сбывалась как-то неправильно. Ужин давно закончился, остатки еды ушли в помои, добраться до них теперь не было никакой возможности. Зато болели глаза после горчицы, желудок бунтовал без ужина, и зверски хотелось спать. Рядовой Назаров держался на ногах исключительно из-за голода и злости. И еще немного из-за того, что дежурный прапорщик все ж таки заронил в его душу надежду на небывалую кашу. Ведь это если одна банка сгущенки приносит столько счастья, то чего ждать от целой миски разваренного в сгущенке риса!
Митька попытался вспомнить вкус и запах сгущенки. Живот отозвался рокотом колевублов и приступом тошноты. Злость сдавила грудь удушливым спазмом, отчаянная решимость овладела Митькой. Он занес последний ящик в проходную комнату, из которой дверной проем вел в горячий цех и, с грохотом обрушив ящик на такой же деревянный гробик, набрал в грудь воздуху, чтобы выразить протест против бесчеловечной эксплуатации.
Но тут произошло такое, чего не могло быть никогда, потому что так не бывает.
Кроме него в помещении находились двое. Высокий парень в белой поварской униформе держал в руке карандаш и что-то отмечал в казенном бланке, лежавшем на металлическом разделочном столе. Рядом с ним стоял дежурный прапорщик и тыкал пальцем в этот самый бланк.
Когда Митька вошел, прапорщик, обращаясь к повару, укоризненно произнес:
— Ну, вот же, йоптаэть.
Повар кивнул.
— Ааа… Ну да, — протянул он и черкнул в бланке карандашом.
— Открывай, — велел дежурный.
У повара в руках вместо карандаша вдруг оказалась небольшая фомка. Загнутым ее концом он ловко подцепил деревянную крышку, поднажал, гвозди с противным скрипом вышли из продольной планки верхнего ящика. Крышка отвалилась, и прапорщик вынул из ящика самую настоящую банку сгущенки.
Митька застыл на месте, заворожено глядя на самый прекрасный в мире голубовато-синий геометрический рисунок и строгие белые буквы. Злость ушла, слова пропали, остался чистый восторг от свершившегося чуда. Невзрачный ящик оказался полон невиданных сокровищ, а хмурая подсобка представлялась теперь не меньше, чем пещерой Али-Бабы.
Но главное…
Главное, выходит, что прапорщик сказал правду. Будет каша на сгущенке, и будет этой каши невообразимое количество, из которого, наверное, не жалко выдать одну миску усталому бойцу, добросовестно исполняющему воинский долг и стойко переносящему тяготы и лишения.
Прапорщик заметил Митьку и самым обыденным голосом сказал:
— Назаров, йоптаэть, чего застыл? Бегом марш к Замалтдинову за боевой задачей.
Реальность вернула Митьку с небес на землю, и он поплелся на голос кривоногого ефрейтора, доносившийся сквозь неизбывный туман, неизвестно, как рождавшийся и не желавший рассеиваться.
У ефрейтора Митька получил моечный инвентарь и приступил к выполнению боевой задачи. Следующие три часа он ползал на карачках и отмывал, оттирал, надраивал все поверхности, на какие падал взгляд неутомимого Замалтдинова.
— Тута помиль? — спрашивал ефрейтор.
— Вроде помыл, — отвечал Митька.
— А это щито, билят? — удивлялся Замалтдинов, и демонстрировал белую тряпку, вымазанную невесть откуда взявшейся пылью.
Митька покорно лез в невидимые щели и тёр, отмывал, соскребал. Сонливость накатывала волнами, он быстро отупел, работал старательно, но механически. В глазах у него двоилось, поле зрения то и дело застили темные круги. Он монотонно тер губкой шершавую напольную плитку, кафель, разделочные столы. Штаны промокли и противно липли к коленям. Песок под веками царапал белки. Остаток сил Митька потратил на то, чтобы не свалиться от усталости прямо у самодвижущейся ленты.
Здесь его отыскал дежурный.
Приподняв Митьку за шиворот, прапорщик сказал:
— Так, Назаров, йоптаэть, сейчас два. Тебе положен отдых в течение четырех часов. Дуй в роту, а чтоб ровно в шесть нуль-нуль был здесь, понял, йоптаэть?
— Понял, — равнодушно ответил Митька.
— Инвентарь в подсобку занеси, ля.
Митька кивнул и стал раскатывать рукава афганки. Он вяло думал о том, что у него был какой-то вопрос к прапорщику. Смутно он соображал, что забыл что-то важное и не мог вспомнить что именно. А вообще-то сейчас для него не существовало ничего более важного, чем сон. Надо было немедленно лечь и закрыть глаза, а все прочее не могло иметь сколько-нибудь серьезного значения.
Потом Митька собрался с силами и кое-что вспомнил.
— А поесть можно? — спросил он, не надеясь особо на положительный ответ.
— Можно Машку за ляжку, йоптаэть, — ответил прапорщик. — Давай за мной, ля.
Они пришли в горячий цех. Здесь было светло и чисто. На исполинских плитах величественно возвышались утесы алюминиевых кастрюль с аляпистыми красными надписями «горячее» на бронебойных бортах. Прапорщик прошел мимо них прямо к скороварке, в которой можно было приготовить мамонта. Он повозился с фиксаторами, откинул крышку. Из скороварки вырвался клуб ароматного пара. Внутри переливалась тихим перламутровым светом рисовая каша.
Прапорщик снял со стеллажа миску, со стола взял блестящий черпак, вручил приборы Митьке.
— Ложь, сколько хочешь, йоптаэть, — приказал он.
Каша была плотной. Распаренный рис слипся в единый жемчужный ком, черпак сразу увяз в нем. Митька осторожно тянул на себя железную ручку, боясь неосторожным движением разбросать драгоценную вязкую массу.
— Ох, горе горькое, — сказал прапорщик. — Дай сюда, йоптаэть.
Он взял у Митьки черпак, в три взмаха наполнил миску с горкой, передал миску Митьке.
— Ложку возьми, йоптаэть. Поешь и сразу в роту.
Митька принял миску, горячее дно обожгло руки, и он сразу поставил ее на стол. Воткнул в горку ложку, натянул на пальцы манжеты афганки, миску взял осторожно за края и отправился в обеденный зал.
Зудела и подмигивала дежурная лампа. Митька сел за стол, замер над кашей. Что-то изменилось, что-то важное произошло, и он не мог уловить что именно. Оглядевшись, понял, что в столовой стоит глухая тишина. Не гремела мойка, не выла мотором лента доставки, не тащила с грохотом в окно приемки груды алюминия. Не было гула голосов, не стучали ложки о железные донышки. Не отдавались команды и не суетились дежурные.
В полном безмолвии Митька провел ложкой по краю миски, снимая чуть остывший слой. Подул, прогоняя легкий парок, и положил кашу в рот. Пожевал, погонял языком по нёбу, почувствовал рисовую сладость. Каша была обычная. Вкусная, сладкая, совершенно обычная рисовая каша на молоке с сахаром. Никакого следа сгущенки в ней не чувствовалось.
Митька без всякого удовольствия съел вторую ложку, и еще одну, и понял, что совсем не хочет есть, что не в силах запихнуть в себя ни одной рисинки. Он посидел еще минуту, соображая, что теперь делать с этой горой невостребованной каши, потом взял миску и отправился в горячий цех. Там никого не было. Он поставил миску на металлический стол и направился к служебному входу.
Ночь июльская, душная накрыла войсковую часть. Воздух пах степью и асфальтом. Прапорщик стоял у двери под лучом прожектора, тянул папироску. У его ног, положив морду на передние лапы, лежала сытая рыжая дворняга. Увидев Митьку, парпорщик сплюнул и сказал:
— Быстро ты, йоптаэть.
Митька замешкался, но отступать было некуда.
— Там это… Там осталось, я больше не хочу.
— Тогда в роту чеши, йоптаэть. В шесть обратно, как штык, ля.
Митька приложил руку к голове, и уже было отправился, но неожиданно вспомнил. Он обернулся и решительно произнес:
— Товарищ прапорщик, разрешите вопрос.
— Ну.
— Вот я кашу не доел. А куда ее?
— Хм, куда… Вон, ей отдам, йоптаэть, — прапорщик указал папироской на псину.
Собака сыто зевнула, тряхнула головой. По ее шерсти пробежала искрящаяся волна.
— Кашу на сгущенке собаке?— удивился Митька.
Прапорщик понял его как-то по-своему.
— Что, много осталось? — спросил он.
— Ды… Почти все, — смущаясь ответил Митька.
— Чего так?
Митька пожал плечами.
— Тогда чуть отложу, остальное в отходы, йоптаэть,— объяснил прапорщик.
— Это понятно, — ответил Митька. — А вообще куда деваются отходы? Много же остается.
— А, вон ты что, — смекнул дежурный. — Отходы свиньям идут, ля.
— Каким свиньям? — обалдело спросил Митька.
— Каким, каким – розовым, йоптаэть! — пояснил прапорщик. — Военный округ это тебе не музей с бабами. У нас тыловая служба, йоптаэть, хозяйство. Через два часа придет машина, отправим отходы на свиноферму. Еще вопросы есть, ля?
Митька четко ответил:
— Никак нет.
Вопросов у Митьки не осталось. Он развернулся и зашагал по узкой дорожке сквозь строй акаций в сторону трехэтажного здания, в котором светились лампы у постов дневальных.
Спать ему оставалось три часа и сорок две минуты.
Иллюстрация Alena Zaytseva https://www.pinterest.de/alenazayceva/_saved/