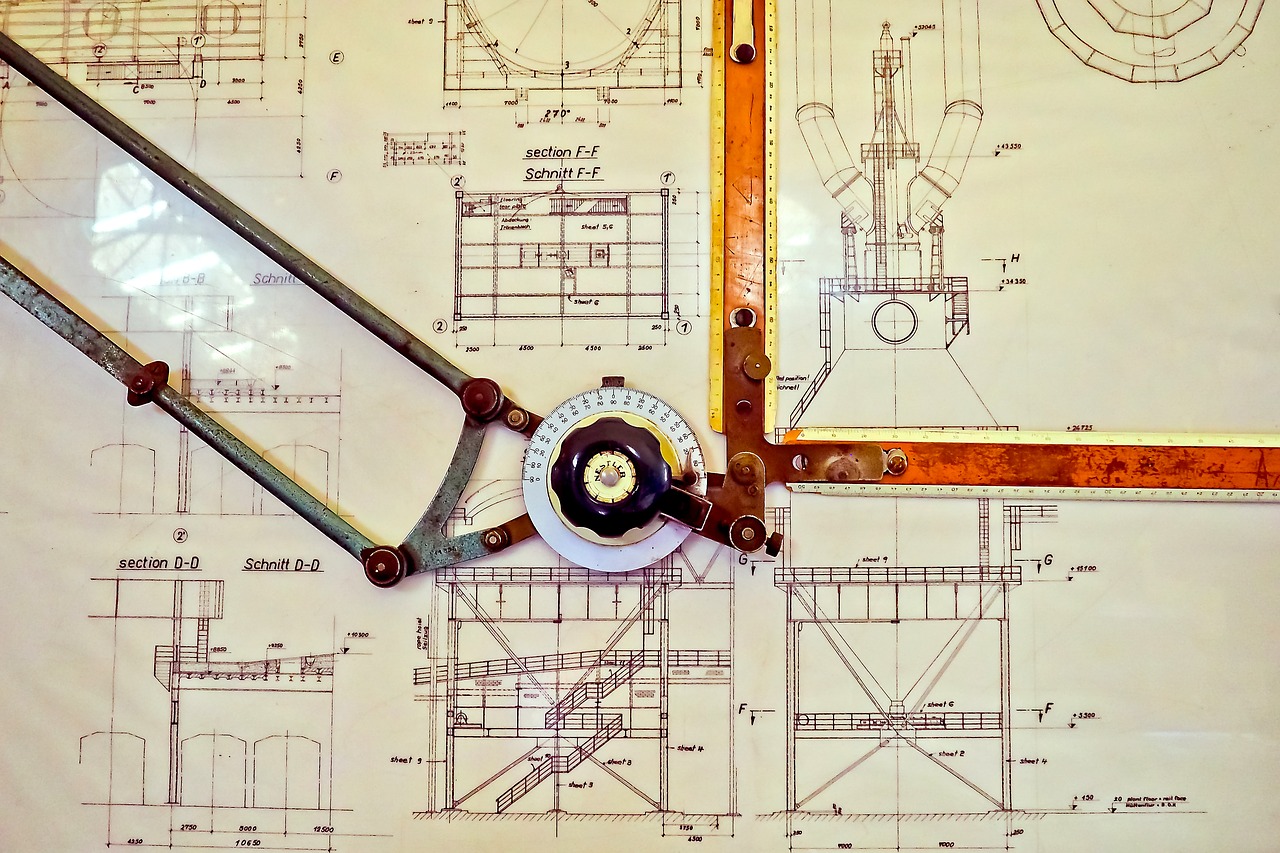Глава 18
Успели мы вовремя. То есть, это я потом понял, что вовремя. А сперва просто почувствовал неладное, заметив у входа в особняк фан Клайесов (или Клайезов? Не знаю, дядюшке дом принадлежал или племяннице) карету, а при ней – с полдесятка вооруженных с факелами. Поздновато для визитов, надо заметить. Или, наоборот, рановато уже?
Не понял я толком, что происходит, но стал раздавать указания невеликому своему воинству. Причем жестами – эх, и муторная же работа у командиров, врагу не пожелаешь.
Радость только, что указания были просты. Обезьяна по моему наущению крутила рукоять ворота, и арбалетная тетива со скрипом ползла по ложу. Я боялся, что у Крайхи мощи не хватит – все же ворот был рассчитан на взрослого мужчину, а она меньше раза в три. Но в этом худом тельце, как оказалось, скрывались кое-какие силенки. Не без труда, но вдвоем нам удалось добиться того, чтоб орех взял крученую жилу на зуб. Я в первый раз, еще когда меня мастер дрессировал с этой рачьей железякой, возился втрое дольше и проклял все на свете. У обезьяны куда ловчее получалось – и ворот крутить, и стрелку на ложе укладывать. Но все равно, боюсь, будет у нас только один выстрел. Если очень повезет, то два.
Мальчишка, взглянув на наши приготовления, сообразил что к чему и изготовил к стрельбе аркебузу. Стеклянный пузырек с огоньком внутри уже был зажат в челюстях серпентины, в стволе были и зелье, и пуля. (Иначе зачем бы я вообще тащил с собой эту штуку? Как ни ловки пальцы у Крайхи, а зарядить ружье она бы вряд ли сумела.) Но вот на полке мякоти не было – высыпалась вся. Правда, огня от этой стеклянной штуковины куда больше, чем от обычного кремешка, но у нас нет права на осечку. Так что парень насыпал на полку пороху и занял позицию.
Мне, кстати, тоже пора. Поваленного дерева, способного сыграть роль лафета, поблизости не обнаружилось. Пришлось довольствоваться проломом в изгороди, на край которого я и пристроил ложе.
Теперь цели. Командует конвоем какой-то офицер верхами и в кирасе. Плохо. Ибо от его круглого железного брюха болт может и отскочить, а я не такой стрелок, чтобы метить в голову или в горло. Притом выбивать сперва нужно командиров – это я знаю.
Так, а это что за знакомая долговязая фигура? Облезлый хвост и все, что под ним – это ж наш старый знакомый Клаус, что так и не доехал до места основных событий, сраженный зеленым змием в Киннесхольде. Интересно, его напарник, Якуб, тоже где-то здесь? Если да, то это плохо – не люблю, когда приходится хлестаться со знакомыми. Если твой враг – чужак, он для тебя и не человек словно. А ежели ты с ним из одного котелка хлебал, то поди попробуй ему теперь кишки выпустить. Да при Клаусе еще и «перо» его любимое. Терпеть не могу древкового оружия, особенно когда им мне пытаются шкуру попортить. В темноте в меня попасть мудрено – хоть из арбалета, хоть из мушкета. Но проткнуть эдакой вилкой – запросто.
Пока раздумывал, в окнах первого этажа замелькали блики, и на крыльце появилась сама Лиссия. Нет, вру, какая там «сама» — за локти ее держали двое каких-то молодцов – похоже, не простые солдаты, а чья-то гвардия, одеты понаряднее, шитье сверкает в неровном свете факелов. И вооружены иначе – ружей не видать, но у одного за поясом пистоля, у каждого на бедре короткий тесак. Для боя в тесных улочках да в коридорах домов получше шпаг да копий будут. А позади девицы скачет какой-то ферт – из дворян явно, но не в мундире, немолодой, но прыткий и неприятный, блеклый, как гриб-поганка.
Перед самой каретой Лиссия заупрямилась, что-то проговорила. Ферт ответил – слов не разобрать, но явную гадость какую-то выдал: сам захихикал, а Лиссия сморщилась.
Банг!
Это, не дожидаясь моей команды, выпалил мальчишка. И попал, стервец, куда надо: офицер мешком свалился с коня, грянувшись закованной тушей о камни дорожки.
Остальные заозирались – и этой паузы мне хватило, чтоб прицелиться и задней лапой потянуть рычаг. Что мной тогда руководило – не знаю, но уж точно не голова, потому что попасть в Лиссию ничего не стоило, при моих-то талантах. Но я попал в ее стража – того, что с пистолей. Он как раз ее выхватил из-за пояса, для чего снял одну руку с правого локтя девицы фан Клайес и отшагнул в сторону (может, потому я и решился, что он отшагнул). А она не растерялась. Как только болт рванул гвардейца за плечо – того аж крутануло на месте – она вырвала тесак из ножен второго стража, слева, и, не прерывая движения, полоснула того по физиономии. Задела, может, и не сильно, но кровища хлынула, и ему стало не до всего. А Лиссия, развернувшись на каблуках, тут же всадила клинок в ферта – да не в брюхо, а между ног. Видать, крепко он ее допек. Ферт завизжал свиньей, я окончательно понял, что на перезарядку арбалета времени нет – и кинулся в свалку, вереща во все горло. В мою сторону тут же кто-то выпалил – дурак, он-то на свету, а я в темноте. Пятьдесят шагов я пролетел, как давешний болт — но все же успел заметить, что Клаус старательно смотрит в сторону от Лиссии. Ну и молодец. Ага, вон и Якуб – перезаряжает арбалет, и что-то у него явно не ладится. С чего бы, а? Ладно, ребята, живите, авось свидимся.
Вон еще один гвардеец появился, пытается помешать Лиссии добраться до лошади покойного офицера. Ну, уж тебя, дружок, жалеть не буду. Прыжок, удар, когти вязнут в позументах, валимся оба на землю, бледная рожа уже у самых моих глаз – и хорошо, что бритая. Подбородок прижимается к груди — -знает, подлец, что горло надо беречь. Ну так вот тебе клыками по харе, да по уху. Все, не боец – кровь залила глаза, да и боль, небось, такая, что луны в небе не видать.
Вскакиваю – только для того, чтобы кинуться под ноги какому-то здоровяку с алебардой. Поганая у него железяка, с крюком, как раз годная, чтоб всадника с лошади стащить. Вернее, всадницу – и этого допускать никак нельзя. Здоровяк пытается через меня перепрыгнуть, но не на того напал. Мои зубы рвут плотную ткань штанов вместе с мясом под нею, а хвост хлещет не хуже бича. Детина валится с воем, алебарда брякаят о камни дорожки.
Вижу, как конная Лиссия прорывает, наконец, неровное кольцо оставшихся пешцев и скачет к проломленным воротам. На шум откуда-то сбегаются еще солдаты, но понять, что происходит, не могут. Только один конный пытается преследовать девчонку, но из кроны старого бука над его головой вдруг выныривают две черные руки-ноги, хватают преследователя за голову – и на истоптанную копытами лужайку падает уже мертвец с вывернутой шеей. А еще говорят, обезьяны – мирные травоядные.
Потом у стены дома громко бухает, сноп огня и дыма взлетает, кажется, до самых облаков, кто-то получает обломком камня по ребрам, кто-то орет, заработав ожоги – и я понимаю, что ловить тут уже нечего, переполоха достаточно и так. Напоследок, из озорства, скорее, рву за задницу подвернувшегося не в добрый час солдата – и припускаю следом за ускакавшей лошадью, наслаждаясь звуками переполоха. Звуки, прямо скажем, разные – пальба, например, и даже свист свинца в ветках. Зато не слышно четких команд, одна ругань и стоны раненых.
… А мальчишка – молодец!
…Лошадь я догнал на удивление скоро, квартала через три, где особняки чистой публики уступали место домикам поскромнее и погрязнее. Кальм – он такой, город-то торговый да портовый, а в портах какого только народу не бывает. А догнал быстро – так, видать, Лиссия сообразила, что надо бы дождаться спасителей. Рассмотреть, кто тут был, она вряд ли смогла бы. А вот визг своей любимицы могла и узнать. Визжала обезьяна, надо заметить, отчаянно. Да и я голос подавал.
До Лиссии мы добрались почти одновременно. «Мы» — это я, Крайхи и мальчишка. Уж как ему это удалось, не знаю, но дышал он, как запаленный конь. Однако аркебузу не бросил. И что толку в ней сейчас, если весь порох извел в том взрыве? Я-то арбалет бросил, понятное дело. Эх, и влетит мне…
Не влетит. Не от кого.
По-моему, оглядев наше немудрящее воинство, госпожа фан Клайес удивилась. Сильно так удивилась. Чуть с коня не свалилась. Подумала-подумала – и таки спешилась, что-то там на ухо пошептала трофейному животному – и вот оно бодрой рысью поскакало вверх по мощеной улице, только искры из-под кованых копыт. А мы шмыгнули в ближайший переулок, узкий, как рыбья кишка, и такой же вонючий. Но опасаться, что девушка хлопнется в обморок, уже не приходилось. Заляпанная чужой кровью, с окровавленным тесаком в одной руке и с пистолей в другой (верно, из седельной кобуры вынула, я и не заметил), она сейчас походила на кого угодно, только не на кружевную барышню. И губы кривила зло – видать, злилась, что не со всеми своими обидчиками удалось посчитаться. Но ума не устраивать засаду хватило.
Двинулись по переулку и, похоже, наобум. Вилял он как вьюн среди камышей. Наверняка жители окрестных домов (а то и лачуг) попросыпались, заслышав пальбу, а потом и грохот взрыва. Но благоразумно носов наружу не высовывали, а то и лишиться недолго. Если что, сам откушу. На всякий случай идем как можно тише.
Ага, а ведь, кажется, никто из нас не знает, куда идти следует. Понятно, что переулок куда-то да выведет. А потом?
Нет, все же, кажется, кто-то знает. Как только мы вынырнули из «кишки», мальчишка уверенно свернул вправо, пересек рысцой какую-то площадь с перевернутой телегой в центре, запетлял по улицам…
М-да, а в городе-то в самом деле неладно. Несколько раз попадались заборы с таким точно опаленными проломами, что в усадьбе фан Клайесов. И на улицах кровавых пятен хватало. Их где-то замыли, где-то присыпали, а кое-где свернувшийся красный студень начисто слизали с камней то ли собаки, то ли крысы. Но мой нос не обманешь. Да рыбий хвост вам всем в глотку! Что тут происходит?!
Наконец, мальчишка вывел нас на какую-то окраину, где чахлые огородики плавно переходили то ли в пастбища, то ли в пустоши. Погони не было, поэтому люди и обезьяна рядком уселись на взгорок. Кажется, когда-то тут проходили оборонительный ров с валом, но от них мало что осталось. Я улегся на пузо.
— Сударыня, ежели желаете, я вас могу в одно укромное местечко отвести, — проговорил, наконец, парнишка, все еще с трудом переводя дыхание.
— И что там?
— Да уж не замок, — ха, кажется, он еще и шутить пытается? — Землянка в укромном месте, ручеек… Отлежа… отсидеться можно.
— Ты-то зачем в это дело ввязался? — она смотрела на него с подозрением. — Я понимаю, моя умничка, — тут она обняла и даже чмокнула в волосатую макушку Крайхи, которая в ответ потерлась мордочкой о хозяйскую щеку. — Она, небось, уговорила и нашего хвостатого друга. Спелись еще в походе.
Ну, спелись – это громко сказано. Но – да, боевые товарищи, пережили немало опасностей. А такое сближает.
— Но ты-то как влез? — не унималась Лиссия.
— Так ведь это, сударыня… Меня ж его вон хозяин, — кивок в мою сторону, — на службу нанял. И сказал, что, ежели подведу, из-под земли достанет. А он может, я знаю. Он при первой же встрече про меня все сказал как есть.
Ага, а я-то, дурак, думал, что мальчишка нам из верности помогает. А он из страха. Тоже, в общем, неплохо, страх так даже понадежнее будет. Но как-то обидно.
— А еще он мне перед отъездом жалованье вперед уплатил за шесть седьмиц. Ну, а прошло всего-то четыре. Стало быть, еще не все отработал. Так когда в городе круговерть пошла, я и засел поблизости от ихней лодки – она ж приметная. Думаю, ежели не в дом пойдет, так к воде. А тут я. Вот его увидал – так подумал, что за мной. Ну, и помочь взялся. А что за вами пойдем, чтоб воевать, так я сначала и не знал даже…
Ага, так он не только из страха, но еще и из честности. Что ж, молодец. Надо будет хозяину…. Нет, не надо. Некому…
— А тебе, гляжу, понравилось воевать?
Мальчишка смешался – то ли кивнуть пытался, то ли плечами пожать, и то и другое вышло у него как-то коряво. Но угадала ведь – понравилось. И страшно ему, и интересно, эвон глазенки блестят. Видать, в разбойники подался не только с голодухи.
— Только вот, сударыня, — сказал он наконец вместо ответа, — рассиживаться тут нечего. Не ровен час, заметит кто да донесет. Щас же и не понять, кто в городе главный, то ли старые, то ли новые стражники. То они друг с другом дерутся, а то вместе в карауле стоят. Ну их всех. Идемте-ка в лес, там оно сподручнее. Сумеете?
— Да уж как-нибудь, — нахмурилась Лиссия, поднялась и сунула, наконец, пистолю за пояс. Тесак приходилось держать в руке, и это ее не радовало.
Постояла пару вдохов, думая о чем-то. Видать, сообразила, что теперь она тут самая старшая.
— Ладно, веди в свою землянку. Теперь так. Хитрый, твой хозяин сейчас, скорее всего, под замком сидит. Только не в городской тюрьме, а в монастырских казармах. Мне туда, понятное дело, хода нет, а ты, может, проберешься. Если что – давай на этом же месте через день тебя этот вот малый ждать будет. Понял?
Я кивнул. А потом вдруг ни с того ни с сего решил ответить – прощелкал по-фамовски:
— Понял.
Так, она поняла, что к ней обращаюсь, а вот смысла не уловила. Щелкаю еще раз, только медленно, как старый флюгер в слабый ветер.
— П-о-н-я-л.
Ага, вижу, уразумела. Теперь попробую ей на всякий случай объяснить, что я уже не фамилиар, я сам по себе.
— Х-о-з-я-и-н… м-е-н-я… п-р-о-г-н-а-л.
— Да это сейчас неважно. Его спасать надо – ты это пойми, рыбная твоя башка.
— Сама ты рыбная, — огрызаюсь. Кажется, разобрала хотя бы что-то, но не обиделась.
– Прогнал или не прогнал – это вы потом разберетесь. А сейчас его там могут пытать. Поэтому хоть разузнай, как там и что, потом подумаем. Ты боевой пловец или тряпка?
Пловец я, пловец. И казармы эти у самой воды, знаю я их – мрачные такие здания, хотя для тюрьмы, наверное, не очень подходят. Ладно, посмотрю на них сегодня с воды. А потом… «а потом подумаем», это она верно говорит.
— Меня, — говорю, — если что, можно искать в порту, есть там улочка Кошачья. А на ней – дом горелый. Я в подвале быть могу. Только вы туда не лезьте, а как подойдете, совой, что ли, поухайте. Я кряквой в ответ отзовусь.
Семь потов с меня сошло, пока это ей разъяснил. Зачем – не знаю. По уму, надо бы, конечно, их до самой землянки проводить. Ну да ничего, если что, по следам сыщу. А сейчас надо-таки к казармам, аж пятки жжет. Ишь, удумали – хозяина пытать. Да я им кишки всем выпущу и по стенам развешаю!
***
Воинственности моей хватило ровно до того, как я к казармам подошел. Подплыл, вернее, с воды – люди редко оттуда беды ждут. Подобрался под самые стены, а оттуда водостоком залез внутрь, в самую толщу кладки. И наткнулся там на решетку. Прочную, старую, и, похоже, бронзовую, так что никакая ржа ее за столько-то лет не взяла. Будь я обычной порешней, может, и протиснулся бы между прутьями. А так – хвост с маслом.
Два часа плавал вдоль стены, выискивал водостоки. Пять нашел. А толку? Один и вовсе оказался забит дробленым камнем, в другом коряги и ил образовали такую запруду, что любой бобер бы обзавидовался. В трех остальных оказались все те же решетки. Разве что до двух из них пришлось нырять, а третья торчала из воды почти наполовину. Но мне-то что с этого?
Так, думай давай, Мидж, думай, Оттер, думай, Хитрый. Что ты еще знаешь об этих казармах? Почему они монастырские? Ничего не знаешь. Значит, что? Значит, искать нужно того, кто знает, для кого Кальм – дом родной.
И я отправился к Коту.
Кружным, наверное, путем – сперва водой до тех мест, где рыбу ловил, а потом уже по суше, как мы с Хвостом ходили. Даже мимоходом цапнул за загривок увесистого леща: раз мне от главаря банды бывших фамов нужен разговор, придется платить.
Нет, совравмши – шел я не совсем тем путем, что мне крысюк показал. Направление примерно то же, но кое-где я с успехом применил обезьянью повадку. Ведь утро уже, нечего зря хвостом светить. А по дороге то и дело попадались каменные стены – здоровенные, в рост человека, а то и повыше. Оказалось, по их хребтинам идти куда удобнее и безопаснее, чем по загаженным улицам. А кое-где и угол можно было срезать, перескакивая с забора на дерево, с дерева на крышу каретного сарая… И с верхотуры открывались мне все новые признаки беспорядка в городе: кое-где посреди садов и парков у костров грелись солдаты, причем на дрова пускали не только тут же срубленные деревья, но и мебель. В одном месте видал повешенных. Ну, и опаленные проломы попадались – то в изгородях, то в стенах дома. А сгоревшим зельем от них не пахло.
Правда, этого безобразия было много в чистых кварталах. А, скажем, там, где жили богатые ремесленники или купцы, все оставалось чинно-благородно. Ни на войну не похоже, ни на бунт плебеев. В портовых же улочках и вовсе ничего такого не видать.
— Приветствую тебя, о мой длиннохвостый друг! Уж не мне ли угощение несешь?
Серебристо-черный котище спрыгнул на черепицу прямо передо мной. Я мгновенно принял боевую стойку, выронив добычу из пасти – и только потом его узнал.
— А ты, гляжу, времени не теряешь. Верхние пути по городу осваиваешь. Похвально. И кто надоумил?
— Знакомая одна, — буркнул я. – Рыба – тебе.
— Рыба – это хорошо, — кот придавил когтистой лапой чешуйчатый бочок, не давая лещу соскользнуть вниз. – Сам-то ел?
— Не до того было.
— То-то гляжу, смурной ты больно. Можем в подвал пойти, а можем и здесь поговорить, на свежем воздухе. Не против?
Я не слишком уютно чувствовал себя на крыше, но возражать не стал. Идти-то было еще неблизко, а город оживал.
— Что за почесуха в Кальме творится? – спросил я после того, как котище утолил первый голод (оставив от леща чуть больше половины).
— Ты о чем?
— Солдаты. Пожары. Проломы в стенах…
— А, так это незадолго до твоего появления двуногие друг с другом резались. Это ж у них любимое занятие. Два дня пальба стояла, сталь звенела – в город не выйдешь. Сидели мы все тогда в подвале, голодом мучимы. Неприятно, да. Но уже закончилось все, это так, остатки… Неужто тебя судьба этого племени так волнует, что аж кушать не можешь?
Он подвинул мне остатки рыбы. Аппетита и вправду не было, но силы-то нужны, так что пару кусков я проглотил. Показал заодно, что кушать все же могу.
— Так если б война или бунт, все б иначе было?
— Так и не война и не бунт. Одно племя с другим хлещется. Оба здешние, так что большинства горожан это, почитай, и не касается. Герцог пятки смазал, теперь вместо него кто-то другой. И вот родственнички и просто друзья этого другого вылавливали да выкуривали сторонников герцога. Я тут такое уже видал. Давненько, правда. И тогда похлеще было. А, может, это я тогда моложе был, впечатлительнее. Хотя… а ведь ты прав, необычное кое-что на этот раз было. Колдовали много. Небось, знаешь, как это бывает, когда от чужой волшбы шерсть дыбом.
Я знал.
— Нет, пожалуй, не погоревшие стены тебя волнуют, — раздумчиво сказал кот и хлестнул себя хвостом по бокам. – Ну-ка, выкладывай.
— Что ты знаешь о монастырских казармах?
Он удивился – роскошные брови дернулись вверх, пронзительные зеленые глаза, и без того круглые, стали еще круглее.
— А что о них знать? Построены очень давно, лет, может, сто назад. Или еще больше. Тогда еще чернорясые отдельную армию держали, вот для монахов-воинов и сооружали. И жилье, и крепость, и арсенал – все вместе. С тех пор много чего поменялось. Монаси там давно не живут. Пытались эти строения то под склады торговые использовать, то под обычные казармы… В смутное время моей молодости там тюрьма была для особых… Постой-постой? Уж не поэтому ли они тебя заинтересовали. Ну-ка, ну-ка… Кто там сидит?
— Сидит, — отозвался я.
— Часом, не твой ли бывший?
Я кивнул. А какой смысл врать и отпираться?
— Ты уже там был?
Снова кивок.
— И как с подходами?
— С воды есть. Но мне по ним не пройти – решетки.
— Да, монаси – не дураки, с умом строили. Тебе, впрочем, мало где пройти можно – в городе-то. Вон какой корпулентный.
Последнее слово он промурчал с явным удовольствием (вообще, хочу заметить, мурчание для фамского языка куда удобнее, чем, скажем, мое гиррканье – можно больше чувств вложить). Правда, ученого этого слова я не знал, но догадался, что это про размер.
— А, скажем, наш с тобой добрый знакомый Хвостик пройдет?
Я прикинул.
— Пройдет.
— А я?
— Скорее всего, нет. Морда не пролезет.
— Не груби! – наставительно сказал кот. – А то обидеться могу.
А я и не думал. Что ж у него, лицо, что ли? Но возражать не стал – не до того.
— А вход, говоришь, туда с воды? Не люблю я ее…
— Плот можно использовать.
— Хорошая мысль! Недаром ты зверь полуводный. Значит, так…
***
С плотом оказалось все не так просто. Подходящего обломка – вроде приснопамятной крышки люка – найти не удавалось. А скрутить что-то из обломков помельче некому было. Эх, сейчас бы хоть Крайхи с ее пальчиками… Опять же, в том месте, откуда мы затеялись плыть к монастырским казармам, народ жил победнее, поэтому всякий деревянный мусор, что приносила река, живо растаскивал на дрова.
В конце концов, нашли досочку, но ясно было, что кота с крысюком она не выдержит. Даже одного кота. Крысюк, изрядно робевший в присутствии Уса, соглашался было плыть рядом со мной. Ему-де не впервой, город-то весь каналами пронизан, а из одной части в другую перебираться доводилось. Но я посмотрел, как он это делает – так без слез не взглянешь, перепуганная мордочка торчит из воды, лапки быстро-быстро перебирают под пузом, а скорость чуть побольше улиточьей. Через канаву, может, так и можно перебраться, но нам-то плыть предстояло не одну сотню саженей.
Судили-рядили, сидели-глядели – и придумали. Буду я плыть на спине, доску лапами держать, а грести только хвостом. Мне в таком положении, правда, не видно будет ничего, кроме пассажиров. Потому кот будет командовать, словно он – капитан, а я – матрос у кормила.
На самом деле, грузы так мне таскать не впервой. Даже как-то мешочки с порохом на брюхе перевозил – кожаные, завязанные плотно, но все равно лучше не макать было. Даже как-то смотреть вперед наловчился – голову забросишь, один глаз из воды выставишь, худо-бедно ориентируешься. Но вот с пассажирами-напузниками дело имел впервые. А они капризные, особенно кот – волна ему то и дело лапы мочит, а он шипит недовольно, ругается. А что я могу сделать? Тут вам не пруд деревенский, над рекой ветер гуляет, рябь разводит. Я и так голову задираю на манер корабельного носа, чтоб хоть встречная волна через доску не перекатывалась.
И ведь объяснял усатому, в какой водосток нам надо – а привез он нас сперва не туда. Хорошо, неглубоко заплыть успели в тоннель. Но развернуться уже не получилось, и пришлось задним ходом выбираться. А поди погреби хвостом не вперед, а назад. Наслушался тогда от меня кот… Но не возражал, понимает, что сглупил. Кстати, еще и по башке получил — не от меня, от тоннеля, сводом по макушке во время движения. Наверное, строителям на том свете здорово икалось. И их родителям тоже, и даже бабкам с дедками. Хотя эти уж точно не виноваты, что это усато-хвостатое высокородие не смогли второй слева пролом от третьего справа отличить.
Но, наконец, забрались в правильную дыру и пристали прямехонько к бронзовой решетке. Со времени моего пребывания тут вода чуть спала, но все равно сухих берегов, на которые мы могли бы высадиться, не было. Аккуратненько перевернувшись под доской, я нащупал лапами неверное илистое дно. Можно будет потихоньку стоять, подпирая плотик спиной и уперев его краешек в какую-то приступочку.
И вовремя, надо сказать, я все это сделал. Потому что иначе как пить дать утопил бы кота. Или, по крайней мере, искупал в вонючей воде: похоже, не только дождевая вода стекала в эти водостоки, но и помои с кухни, и всякие еще менее аппетитные отходы. Благо, хоть недавний сильный дождь вымыл большую часть непотребства из тоннеля. Но вонь осталась.
Я-то думал, что Хвост просто сходит на разведку по подземным лабиринтам. И тут у меня по спине кто-то словно провел жесткой щеткой – против шерсти и так прижимая щетину к шкуре, словно хотел поскрести каждый позвонок. А потом в голове заплясало стадо мелких бесенят, в глазах замельтешили мошки… Связка! Мне ли ее не узнать? Только вот грубая какая… Это вообще процедура не слишком приятная. Но при работе с хозяином ощущение было такое, словно тебя чуть-чуть за кишки дергает. А тут – словно их узлом выворачивает.
А еще – понятно стало, что в связке нас трое. Я, кот и крысюк. И что мне теперь приходится на мир смотреть еще и крысиными глазками. И до чего это неудобно, доложу я вам. Каждый глаз словно в свою сторону глядит, и видится все словно сквозь серый дым, разобрать можно только светлые и темные пятна. Я даже пожалел хвостатого мимоходом. А потом подумал, что от эдакой разведки толку будет немного. Это ж пока он излазит на своих коротких лапах все огромное пространство казарм…
Но я ошибся.
По части найти дорогу в незнакомом лабиринте крысе нет равных. Даже дикий пасюк в любой норе – дома. А уж если прибавить ему ума – даже самую капельку, сколько влезет в невеликую крысиную башку…
Вздохов через пятьсот Хвост уверенно выбрался в какой-то коридор – и снова шмыгнул в узкую щелку. То ли бывал он тут раньше, то ли рассказал ему кто, где следует искать узников, но первую камеру я увидел еще до того, как успел соскучиться. Хотя лапы мои от неподвижного стояния в илистой кашице уже затекли, и хотелось как следует размяться.
Но тут мордочка крысюка высунулась из-за каменного обломка (я скорее догадался, что это камень, чем увидел: крысиный ус мазнул по поверхности, а уж усами и я и он пользуемся похожим образом) – и про лапы пришлось забыть.
На охапке соломы ничком лежал человек. Худой и совершенно голый, вместо одеяла прикрытый кое-как мешком из-под табачного зелья. О том, что табачного, мне поведал крысиный нос. А сам крысюк ведь находился куда ближе к источнику вони, потому не сдержался и чихнул.
Человек приподнялся – явно с трудом, преодолевая боль – и повернул на звук исхудавшее лицо. На глаза ему упала куча спутанных седых волос, но этот птичий клюв вместо носа и корабельный таран вместо подбородка я не узнать не мог.
«Назад!» ударил у меня в голове истерически-перепуганный голос кота.
И сразу же человек выкрикнул «стой» — тоже не голосом, а… ну да, колдовством, как же еще это назвать? И выкрикнул столь властно, что крысюк замер мелкой статуйкой, не в силах шевельнуть даже усом.
— Ну-ка, ну-ка, кто тут у нас?
Узник поднялся с соломы и заковылял в угол, где сидел Хвост.
В жизни я не видывал, чтобы человек так странно шел. Ему было явно тяжело и хотелось рукой опереться на стену или на пол – но он словно не смел. Делал шаг вбок или наклонялся – и тут же отшатывался. На миг он попал в фокус паршивого крысиного зрения, и тогда я понял, в чем дело. На его руках не было ни одного целого сустава. Их не ломали, нет – просто опытный палач повынимал кости из суставных сумок в плечах, на локтях, на пальцах, даже, кажется, на запястьях. И теперь искореженные руки бугрились какими-то шишками и, наверное, немилосердно болели.
Впрочем, болели, наверное, не только руки. На худых ребрах виднелись свежие еще, дня два-три, рубцы от кнута – на удивление чистые, без гноя. А волосы на затылке слиплись от засохшей крови. Ну, и разило от узника немилосердно – мочой и потом, кровью и страхом… И, кажется, скорой смертью. Есть такой запах, его нельзя описать, но если чуял когда-то, то ни с чем не спутаешь.
— И кто тебя послал, малыш, — скрипучим шепотом (право, не знаю, как шепот может скрипеть, но вот скрипел же!) обратился к крысюку старик. Пригнулся, склонил голову набок по-птичьи, словно прислушиваясь, хотя Хвост был неподвижнее кирпича и молчаливее снулой рыбы – и вдруг резко присел, словно у него разом подломились колени. А потом из глаз его хлынули слезы – редкие, старческие, едкие, одна из них упала на нос крысюку, скатилась в приоткрытую пасть, и я почувствовал горько-соленый вкус.
— Фомиус, старый мошенник, пришел-таки, — проговорил Тернелиус, и кот на моей спине дернулся всем телом, как от удара. Потом завозился, словно пытался слезть с доски и не мог.
— Чего молчишь? – прикрикнул старик.
— Пришел, — прошелестел Фом у меня в голове.
— Не просто пришел, а?..
— Пришел, хозяин.
— Так-то лучше. Ты не один, а?
— Не один, — от обычной барственности в голосе, пусть и внутреннем, у кота не осталось и следа. Говорил он, словно нашкодивший подросток, которого за ухо взял папаша.
— Чую, что не один. Ну-ка, кто там третьим будет, отзовись?
Интересно, смог бы я не отозваться? Наверное, да, что он, в конце концов, мне сделает из своей камеры? Но я назвал себя.
— Не может быть! Хитрый, ты?
— Я.
— Ну-ка, ну-ка. А когда мы с тобой в первый раз встретились?
— Когда вы моего хозяина еще пацаненком через окно втащили.
— Верно… Фом, слушай меня внимательно. Я не знаю, кто вас свел, но ты этому зверю помоги обязательно. Всем, чем только сможешь. Понял! Нужно будет…
— Сделаю. Я, между прочим, для этого сюда и явился, — в кошачьем мурчании появилась слабая усмешечка, словно привкус какой или запах едва уловимый.
— Ну, я всегда знал, что ты у меня редкая умница… Постой… ты хочешь сказать, что его хозяин тоже здесь?
— Это не я хочу сказать, это он так говорит. Ему-де передал верный… человек…
— Но вы его тут еще не нашли?
— Нет. Искали, но пока вот тебя только нашли… Хозяин…
— Обязательно найдите. Хоть весь этот чертов каменный мешок перепашите, а найдите. И мне знать дайте. Хоть где я сижу, знаете. Все. Выполнять.
— Хозяин?
— Чего еще?
— Может, принести тебе чего? Еды, может, какой? Много крыс наш не дотащит, но все-таки…
Тернелиус призадумался.
— Ладно, давай вина бутылку, да покрепче. Только пробку заранее вытащи, мне тут не совладать. И пару листов подорожника.
Как крыс шел обратно по коридорам, я не помню. Может, грубая, неправильная связка на время лишила меня сознания. Но нет, я б тогда точно Фомиуса уронил бы в воду. Значит, просто стерлось из памяти. Говорят, такое бывает. Когда очнулся, крысюк уже устраивался на доске. Выглядел он, надо заметить, неважно – нос в крови, глаза тусклые, и ходит, шатаясь, как отравился чем. Чуть в воду не упал. Да и котище, надо сказать, смотрелся – краше в гроб кладут (хотя какие у котов гробы?). По-моему, даже глаза в разные стороны глядели. Но одним из них он зыркнул на Хвоста так, словно прожечь хотел:
– Так, крыса, хоть слово лишнее кому скажешь – задавлю и сожру, понял?!
Хвост только кивнул, по-моему, у него и сил разговаривать не было.
— Тебя тоже касается, — тоном ниже, более для порядку, бросил и мне кот.
— Устанешь давить, — огрызнулся я. Нервы, знаете, тоже не из воловьих жил кручены. — Только мне болтать и вовсе резону нет.
— Ладно, давай вези домой. Отоспаться надо и обмозговать, что дальше делать будем. Сейчас, сам видишь, мы мало на что годные.
Дальше я, если честно, тоже плохо помню. Мы несколько раз плавали к монастырским казармам. Понятное дело, двигаться приходилось по ночам: даже если бы меня не заметили, то кот, рассекающий волны на доске, внимание наверняка бы привлек. Для заплывов мы даже сняли дверь с какого-то сарая, благо, вместо петель там были просто куски кожи, и Хвост ее легко перегрыз – и его чуть не зашибло, когда добыча наконец-то оказалась на земле. Потом ее надо было доволочь до воды. А когда мы уже отплыли, кот сообразил, что новый плот нипочем не пролезет в водосток. Пришлось вернуться, уложить еще и доску, опробованную в первом заплыве (получился корабль со шлюпкой), и веревку в качестве швартовочного каната. А ее тоже надо было найти…
Но главное – грубые связки, которые устраивал кот, всю душу выматывали. Ощущение было такое, словно у тебя в голове копошится комок червей, поросших стальной стружкой. И все скребут, чешут, царапают, щекочут твои мозги – и нет никакой возможности от них избавятся. А то начинают грызть череп изнутри – мелкими-мелкими зубами. Да еще приходилось изо всех сил напрягаться, чтоб хоть что-то увидеть и услышать этими ужасными крысиными глазами и ушами. Нос у него получше моего будет, а все остальное…Потому я и многое запомнить не смог – что было раньше, что позже… Обрывки какие-то, как сквозь дурной сон…
Помню внутренность какого-то здоровенного помещения – явно не камеры, велико больно, потолки высокие, сводчатые… Крысюк сидит в углу за чем-то большим – может, бочкой, может, ящиком, не разобрать, только пахнет сырым деревом. Видно, что в центре стоит стол, на нем, видать, подсвечник – свет неровный, дрожащий, а в воздухе запах горячего воска. Ишь ты, свечи-то дорогие, не простые сальные. Кто за столом, сколько их – тоже не поймешь. А вот говорят двое – один спрашивает, другой отвечает. И голос второго мне знаком.
— Итак, фра Гюнтер, вы отправились с некой миссией в Урфхорден…
— Совершенно верно, Ваше Преосвященство, вы же сами…
— О миссии и ее успешности мы с вами побеседуем потом. Сейчас же меня интересуют некоторые участники похода. А именно – некий фрайхерр и некая девица. Кстати, откуда она взялась?
— Мы встретили, вернее, нагнали ее в пути, Ваше Преосвященство.
— И что, решили взять с собой? – другой голос, незнакомый, хрипловатый. Спрашивал с насмешкой и, кажется, собирался сказать что-то еще, небось, грубость какую, но его остановили.
— Совершенно верно, сударь. Решал, хочу особо заметить, не я. Оказалось, что фрайхерр с ней хорошо знаком.
— Но брать… особу женского пола в опасное путешествие – ведь оно было опасным, верно? — не унимался хриплый, — по меньшей мере, странно. Хлопот больше, чем удовольствий. А вам и вовсе никакого удовольствия.
Нет, таки вставил гадость!
— Она оказалась сведущей и в воинских искусствах (а я, как бывший капеллан, могу об этом судить), и во врачевании ран. Вот, меня лечила и, надо заметить, не без успеха. И…
— И? – переспросил преосвященство.
— И, вынужден сообщить, сведуща в колдовстве.
— Была ли она одна замечена вами в запретных искусствах?
— Я не могу утверждать наверняка, но у меня сложилось впечатление, что главным колдуном в нашем отряде был фрайхерр. А она лишь помогала ему.
— И в чем же заключалось колдовство?
— В вызове демонов.
— И как часто?
— Знаете, Ваше Преосвященство, трудно сказать.
— То есть как? Вы плохо помните? Или случаев было так много, что вы сбились со счета?
— Постараюсь объяснить. Раз на нас напал одержимый демоном медведь. Потом мы столкнулись с огненным демоном, охранявшим вход в дом, где, смею думать, ранее квартировали те, ради которых и была организована экспедиция. Но их мы не видали. Были еще случаи, в которых можно подозревать вмешательство потусторонних сил. Но, кроме того, и фрайхерра, и девицу постоянно сопровождали одержимые животные. Фрайхерра – что-то вроде порешни, только очень большой, почти с человека, а девицу – обезьяна.
— И почему вы решили, что они – одержимы? Возможно, это были просто ручные звери?
— Увы, Ваше Преосвященство. Для зверей они слишком разумны. Я видел и слышал своими ушами, как хозяева разговаривали с ними. Как они разговаривали друг с другом. Как действовали сообща. Видел, как они убивали. Ни одно, даже самое разумное животное, так не сможет. И еще…
— Да?
— И еще девица говорила мне, что у ее обезьяны есть душа. И что правильно было бы… Прошу прощения, Ваше Преосвященство, но она так сказала… уравнять перед Богом и людьми права таких вот… существ и детей Адама и Евы. Мне, говорила сия девица, моя Крахи ближе, чем соседи или даже кое-какие родственники. И, снова прошу прощения, но это ее доподлинная речь: «Обезьяна эта подлости не сделает, а человек – запросто». Потому-де и должно им и право наследования, и все такое прочее: «Да они наши слуги, но почему я, дескать, могу слуге-человеку завещать сто монет или, ежели захочу, замуж за него выйти?» Я посчитал это оскорблением и людских законов, и божеских… О чем и заявляю Вашему Преосвященству.
— Вот как? – это снова хриплый. – А божеских почему?
— Потому, сударь…
— Полковник, — со значением поправил хриплый.
— Потому, сударь полковник, что Господь в великой благости своей создал людей, как сказано, по своему образу и подобию. Сии же твари ему никак не подобны. А девица предлагает их на одну доску с нами ставить. И сие не просто опасное заблуждение, сие настоящая ересь. Ибо известно, что душа есть лишь у человека. А звери же изначально ее лишены. И ежели в таких тварях мы видим нечто похожее, то сие есть диавольская подмена, бесовское наваждение…
— Что ж, брат Гюнтер, я вами доволен. Записали? — это явно куда-то в сторону, небось, служке какому. Тот, знать, не ответил, кивнул только. – Прекрасно. Думаю, вы – верный слуга святой нашей Матери Церкви, и когда мы будем судить этих опасных колдунов, ваши показания лягут на верную чашу весов.
***
Темнота… И только крысиные коготки по камням «цок-цок, цок-цок-цок». Удивительно, сколько в этих казармах каких-то продухов, кривых и узких каменных кишок, глиняных труб, по которым теперь и путешествует наш голохвостый друг. Кот сказал, что для таких вот разведок и нужны были раньше фамилиары из крысиного племени. А я-то думал, кому сдался такой… Ни зубов, ни когтей, ни мышц, ни даже быстрых ног или острых глаз. И еще сказал, что эти все продухи и трубки – для того, чтобы можно было, сидя в одной комнатке, слушать, что говорят в другом. «Нам бы знать, где сидит твой, да какая труба туда откуда идет – эх, насколько все б проще было», — заметил Фомиус, недовольно поводя усом. Но очень может быть, что за давностью лет и сами монаси забыли об этих звуководах. Тем более, что часть из них оказались завалены пылью, битым камнем и прочим сором. Где-то выходы оказались забиты пробками из глины или чопами из дерева – может, обычным крысам так пути загораживали, а может, прознал кто об истинном назначении да и обезопасился… Так что бедный Хвостик мотался по этой требухе туда-сюда, то и дело возвращаясь к развилкам, проскакивая через обычные коридоры или комнаты, где запросто можно было попасться на глаза кому-то из людей. А их тут хватало – то и дело слышался топот, невнятные разговоры, всякие звоны и стуки, а еще – крики и удары. Откуда они несутся, было не понять. Но во мне всякий раз что-то дергалось – а ну как это моего хозяина мучают?
Я уже надежду стал терять. Как в этой каменной громаде сыскать одного-единственного человека? Я уж на «Белую» сплавал да приволок кусок хозяйской рубахи – чтоб по запаху искать, если что. Но какое там… Вонь сгоревшей смолы от факелов, смрад людских нечистот, тяжелый дух сальных свечей, кое-где – следы ладана. Да мокрый камень. Да просыпанный порох. Да труха от деревянных перекрытий, изрядно тронутых древоточцем. Да дым от печей. Да запах похлебки, которой тут, кажется, кормили без особого разбора и стражников, и узников. Да смазанные дегтем или прогорклым салом сапоги охранников. Да кожа их ремней. Да лошадиный навоз и конский пот во внутреннем дворе. Поди в этой какофонии сыщи аромат одного человека…
Но Хвостик – сыскал. И я ему за это по гроб жизни буду благодарен. Как сыскал – он потом и сам объяснить не сумел. Говорил, просто повезло – шел-шел да и наткнулся. Да только верится с трудом. Ибо до внутренности камеры еще докапываться пришлось из соседнего подвала. Пол там странный был – где каменный, а где земляной. То ли в свое время схалтурили строители, то ли был в том какой расчет тонкий – что, например, лишняя влага будет в землю впитываться. Про то не ведаю, зато точно знаю, что будь там сплошной камень, нипочем бы нам к хозяину не пробиться. Хвост полдня копал – ради этого котище даже ослабил связку до еле живой ниточки, и стальные червяки в моем черепе почти успокоились. Только потом рванулись сразу во все стороны, стуча в костяные стенки своей тюрьмы тупыми носами, как пулями. Это Хвостик выбрался из дыры, повел носом – и я узнал запах. Узнал сквозь вонь дерьма, крови и гноя. А когда открыл глаза, то не сразу узнал хозяина. Потом все же узнал – и заскулил тоненько-тоненько, как щенок.
У него тоже все руки были в узлах и шишках, потому что не осталось ни одного не вывернутого сустава. А еще все тело было в рубцах и ожогах – одни свежие, другие подживающие. То есть мучили его несколько раз. И нехорошая рана на правом боку, вроде вывороченных губ серо-желтого цвета с вкраплениями подсохшей крови — похоже, пуля прошла неглубоко, но здорово разворотила кожу и мышцы. И ноги, скованные короткими кандалами – так, что едва можно ходить. И не единой ниточки на теле. А всего страшнее глаза – какие-то белесые, больные, ничегошеньки не выражающие. Меня они так испугали, что я не сразу заметил серый снег, припорошивший некогда темные-темные хозяйские вихры.
Но долго унынию предаваться не пришлось. Лязгнуло, пахнуло ветерком, мазнуло по подслеповатым крысиным глазам светом – открылась дверь. И вошел… все же, наверное, человек. Хотя пахло от него иначе – остро, пронзительно, словно от змеи. А еще почему-то мокрой псиной. И лицо – ну, словно начали его тесать из камня, да не доделали, оставили грубые сколы от зубила. А так – высокий, с длинными и крепкими, как ветки вяза, руками и ногами. Не очень широкий в кости, но сразу видать, что сильный. Одежда богатая. Темная только (крысьими глазами не понять, черная она, синяя или, может, зеленая), с вышивкой темной же нитью, с витыми шнурами. Чужая одежда, таких у нас не носят. Вон, штаны широкие до пят почти, у щиколоток прихваченные завязками. Жилет со шнуровкой по бокам. Под ним – пояс. А на поясе… Очень мне не понравилось то, что на поясе. С одной стороны – кривой нож в ножнах, совсем не кухонный. А с другой — на специальной подвеске кольцами, как змея, свернулась плеть. Самый ее кончик свисал до колен, так что сжавшийся в комочек Хвост сумел уловить запах, стекавший с твердого кожаного лепестка. Пахло кровью. И это была кровь моего мастера.
— Ну что, колдун, будем беседовать беседу? – по-нашему он выговаривал чисто, но вот был я уверен, что это не его родной язык. Не его – и все тут. А еще – голос вроде знакомый, с хрипотцой. Не этот ли нашего святошу подначивал? Не пойму. И не время.
Мастер молчал.
— Зря. Развязывать языки я умею, можешь мне поверить. Ты уже мне дорогу переходил, а это не есть хорошо. Но умеешь ты много, я видел. Ты повелеваешь духами – неумело, правда, но можно подучить. Ты ведаешь пути влаги и сам умеешь их прокладывать. И этому ты бы мог научить меня – если бы мы договорились. И даже огонь ведаешь. А еще ты немного лекарь, немного рудознатец. Да и те стрелки, которыми ты отправил в пыльные пустоши двух моих слуг и кое-кого из здешнего быдла – очень интересные стрелки, очень… Ими, знаешь ли, не я один заинтересовался, но и… Ладно, не надо тебе знать, кто именно, мучайся любопытством. О, я знаю, что оно способно грызть изнутри – если уж таковым уродился. А ты уродился таким. Тут мы даже похоже. Похожи, а?
Он почему-то захохотал злым щелкающим смехом, словно где-то стучали костью о кость.
— И мне было бы жалко просто убить тебя. Это… как это сказал бы купец?.. это неправильный перевод добра. Как если бы из сарашинского скануна делать жареное мясо. Конечно, и скакун может сломать ногу, и тогда ему дорога в котел. Но все же растят его не для того, верно? А ты бы мог еще поскакать. Мог бы, а? А ну, скачи!
Плетка черной молнией прочертила воздух. Хозяин попытался отпрянуть, да куда – в его-то положении да в кандалах… Так бы и грянулся оземь, но страшный пришелец уже оказался рядом, подхватил под вывернутый локоть. Мастер застонал от боли – то ли из-за сустава, то ли оттого, что кончик плети оставил на лбу короткую красную полосу. Словно прочертил ее не витой кожаный ремень, а кончик клинка. Все же чужеземец владел плеткой лучше, чем иные мастера ножевого боя — лезвием. Он приблизил свое лицо близко-близко к лицу хозяина и прошелестел:
— Видишь, ты уже начал говорить. Ты сказал «ааа». С этого слова начинают все младенцы, когда приходят в мир. Так что запев разговору положен. Но… как это у вас говорят? Сказал «а» — говори и «бе». Как баран, да?
Он снова издал костяной смешок – и вдруг высунул невероятно длинный гибкий язык и слизнул кровавую каплю, застрявшую в густой хозяйской брови.
Слизнул – и словно услышал что-то, неслышное прочим. Отстранился, посмотрел на хозяина каким-то другим взглядом.
— Ты уже давал свою кровь кому-то, — это был не вопрос, а утверждение. – Не молчи, я знаю, что давал. И давал по доброй воле. Я даже скажу, как звали того, кто получил твой сок и кому ты спас жизнь. Его зовут Ас-Шасем бел Каси уль Бар-ради.
Он не просто называл имя. Он его проговаривал, как клятву, как прозвание первого командира или, может даже, как молитву своему святому. Сам при этом отошел от хозяина, принял какую-то особую позу, а потом, закончив титулование, даже поклонился слегка.
— И ты зря не сказал мне, что знаком с ним. Это совсем меняет дело…
***
В то утро хозяин спал еще, забравшись под старую тюленью шкуру вместо одеяла: с моря натащило промозглой сырости, а в замке топили так себе: берегли дрова. У Иоганнуса в кабинете имелся отдельный камин. «Прожревлый, пся крев, древа не напасешь», – жаловался старый Анджей. А вот комнатушку хозяина должна была, по задумке неведомого архитектора, отапливать толстенная каменная труба, протянутая из подвала с лыбораториумами к верхним покоям. Предполагалось, видать, что в Ураниборге постоянно будет множество народа, ради которого и станут топить здоровенные печи в подвале. Для этого, небось, пришлось бы возить с материка дрова или, может, уголь древесный. Но не сложилось, и после каждого шторма Анджей, Марта, хозяин, а иногда и сам Иоганнус выбирались на берег за плавником. Когда пару веток пригонит, а когда и вывороченную с корнями сосну. И тут надо было успеть еще раньше местных крестьян, которым тоже нужно было чем-то топить очаги. Словом, с дровами было не очень, и мы с хозяином для тепла вдвоем забрались под одежку покойного тюленя, не лучшим образом, надо заметить, выделанную, вонючую, зато теплую.
— Беда, мой юный друг, беда! Срочно жажду помощи! — с порога закричал Иоганнус, влетая в комнату и путаясь в полах меховой накидки – новенькой, дареной де Контьи.
— Опять пираты? — хозяин уже вскочил и первым делом схватился за пистолю, доставшуюся после памятного боя у сарая.
— Нет, от того оборонили нас светила. Но вот пленник…
— Что с ним?
— Сдается мне, он сильно неможет. И даже близок к умиранию. А помощь ему оказать не есть в силах моих. Нуждаюсь в вашем споспешествовании.
Хозяин набросил куртку прямо на голое тело, вскочил в штаны и помчался вниз по ступенькам, на ходу застегивая пояс.
Бар-ради лежал навзничь на каменном полу, и его, кажется, била падучая: тело то и дело выгибалось мостом, так что плит касались только пятки и затылок. Когда припадок проходил, оно обмякало дохлой рыбиной, и только скованные руки выплясывали неряшливый танец, словно два свихнувшихся краба. Лоб колдуна покрывала испарина, а изо рта, пятная бороду, стекали тягучие нити розовой слюны.
Марта бестолковой испуганной гусыней топталась рядом – уж не знаю, какими угрозами пригнал ее в подвал Иоганнус – и комкала в руках мокрое полотенце. Видать, взяла с собой вытирать лоб страдальца, да так и не решилась к нему прикоснуться. Тут же переминался с ноги на ногу старый привратник, зажав в лапище единственное знакомое лекарство – полупустую бутыль с чем-то крепким и мутным (они с Иоганнусом время от времени упражнялись в лыбораториуме с медными и стеклянными трубками, а потом ходили по замку веселые и краснолицые). Видать, он пытался влить снадобье в горло Бар-ради, но не преуспел – борода и ворот у того были все в дурно пахнущих пятнах и потеках.
Уж не знаю, что сообразил хозяин, а только скомандовал:
— Все наружу! Я сам тут разберусь.
Слуги только рады были выполнить такой приказ, так что и задумываться не стали о том, имеет ли мой мастер право ими командовать. Иоганнус оказался покрепче, хотя тоже с удовольствием спихнул бы ответственность со своих уже не слишком крепких плеч. От двери он оглянулся с вопросом:
— Может, виною Луна? Сегодня – особое полнолуние, а она ведь – серебро, а сей металл действует на некоторые сущности… И…
— Не беспокойтесь, мессер. Я сумею ему помочь.
Я решил, что «все» ко мне не относится – мы ведь с хозяином почти одно. Ну, как ему помощь понадобится? Или защита – может, этот темнокожий хитро прикидывается, а сам, чуть только представится возможность, кинется?
Хотя – не похоже. Вон и на штанах пятна, и запах от него… больной. Острый, кислый – так пахнет лихорадка от дурной раны. Но на всякий случай я подошел поближе – может, придержать больного надо будет. Весу, во мне, правда, не слишком много, а его вон как корежит…
Как только дверь глухо брякнула, закрываясь, хозяин рванул с пояса нож и, прежде чем я успел что-то сообразить, полоснул себя по левому предплечью – и сразу поднес рану ко рту Бар-ради. Легкое заклинание шевельнуло мою шерсть – и красная струйка пробежала по пепельно-серым губам, заставила их раскрыться и упитанным червяком скользнула внутрь.
Пленник невнятно застонал и открыл глаза, мутным, бессмысленным взором мазнул по потолку, по стенам, по мне и, наконец, уткнулся в хозяина. Мигнул раз, другой, явно приходя в себя. Попытался встать, но сил не хватило.
Мастер подобрал с пола оброненное Мартой полотенце, обтер колдуну лицо и бороду, потом свернул влажную ткань, пристроил импровизированную подушку под голову.
— Как… догадался? — Бар-ради смотрел на хозяина уже вполне осмысленными глазами, из которых постепенно уходила боль.
— О чем?
— О том, что мне нужна кровь. Причем человеческая. Причем… — он усмехнулся и облизнул губы, — именно твоя.
— Ты говорил, что человеческая кровь для тебя – лекарство.
— Да? И ты запомнил?
— Запомнил.
— А что нужна именно твоя?
— А чья тут еще есть? — хозяин весьма натурально изобразил удивление, заоглядывался, будто и в самом деле ожидал увидеть еще кого-то.
Колдун улыбнулся все еще серыми губами.
— Дай руку. Да не ту – левую, на которой рана. Не бойся, я сейчас слабее кролика, — он заметил, что хозяин медлит.
Взял двумя руками худое мальчишечье предплечье, все еще окровавленное: мастер приостановил течение красной влаги по своей внутренней реке, но полностью запереть не смог. Говорят, себя лечить вообще трудно. Бар-ради накрыл рану и зашептал что-то быстро-быстро и неразборчиво на незнакомом языке. Кровь унялась, и края ранки буквально на глазах потянулись друг к другу, смыкаясь, как губы.
— Услышал? — спросил колдун.
— Услышал.
И я мог поклясться, что речь шла вовсе не о бормотании чужеземца.
Потом я не раз видывал, как хозяин лечил раны. Похоже, кое-что ему и впрямь удалось перенять у пленного колдуна. Он и сам мне об этом говорил. Но чтобы рассеченная плоть зарастала так быстро и ловко – такого я больше никогда не встречал.
Отняв ладони от излеченной руки, Бар-ради посмотрел на них и, не удержавшись, слизнул остатки красной влаги.
— Вкусно? — поинтересовался хозяин. Мне подумалось было, что он тоже захочет лизнуть.
— Вкусно, — согласился колдун. — Только не языку, не глотке… Какой сегодня день?
— Вторник, — мастер чуть опешил от резкой смены темы.
— Нет, я о другом. Впрочем… у вас тут свой счет времени, а у меня голова сейчас не в том состоянии, чтоб пересчитать.
— Мессер Иоганнус упомянул, что сегодня особое полнолуние. Мол, Луна – это серебро, а оно… Как он сказал… действует на некоторые сущности. У нас есть поверье, что нечистую силу можно одолеть серебряной пулей…
— Про серебро – чушь. И я – не нечистая сила. Не дьявол, не дэв, не шайтан и не ифрит. Но если сегодня и вправду Большая Луна… То твой Иоганнус воистину мудр и чуток. Да и ты… В общем, я твой должник. А Луна… запомни на всякий случай. Она и вправду имеет власть над такими, как я. И тебе еще повезло, что сегодня Большая Луна. В Малую Луну ко мне лучше не подходить. И еще в кое-какие особые дни…
***
— У нас это называется «переданный поцелуй», — проговорил тот, с кнутом. — Люди моего племени могут запомнить «вкус» человека, которого попробовали – лучше, чем лицо или голос. И могут передать этот вкус другому. С наказом, например, найти и убить, — он обнажил зубы в хищной улыбке. — Твой вкус мне тоже передали.
— Велели убить? — зачем-то спросил хозяин. Кто знает, может, ему было так плохо, что он предпочел бы смерть. Я слышал, так бывает даже с самыми сильными людьми.
— Если бы, — ответ прозвучал почти мечтательно. — Велели… не важно. Я велю, чтоб тебе промыли раны. И чтоб накормили.
— Вели лучше, чтоб меня не накачивали этой гадостью, — хозяин скривился, как будто раскусил гнилую ягоду.
— А вот этого нельзя. Даже верность не должна переходить в глупость. И будь благодарен за малое. А мне надо подумать. Такой знак – не из тех, которыми можно пренебрегать. Я не глупец, который решит спорить с самой судьбой…
Лязг двери.
Волна песьего духа – видать, там, снаружи, ожидала своего хозяина здоровенная собака. Мне даже представился огромный такой волкодавище – грязно-серая спутанная шерсть, слюнявая морда, желтые клыки из-под черных губ, жаркое вонючее дыхание…
Снова лязг.
Темнота.
***
Опять в голове ворочаются стальные царапучие черви. Может, я даже смогу привыкнуть к их мерзкому копошению – лет через двадцать. Или двести. Да что ж этот котище никак нормальную связку не выучит, а?
Трижды Хвостик ходил в гости к его, кота, хозяину – носил гостинцы, украденные для Фомиуса в городе кем-то отряда бывших фамилиаров. Или, вернее сказать, шайки. Ну, как еще прикажете называть бродяг без роду-племени, без хозяев, обитающих в подвалах да промышляющих мелким воровством? Однако, я им не судья. Кабы не они, может, и пропал бы уже. Но вот тому, что самому воровать не пришлось, я радовался. Хотя, попадись мы на суд, пошел бы как соучастник – красть не крал, но возить водой да передавать узнику краденое помогал. Впрочем, как раз за сношения с узником нас бы и взяли судейские в первую голову. Одна радость – нет у людей такого закона, чтоб зверье судить. Даже когда фамилиары и их хозяева пользовались всеобщим уважением, за прегрешение фама перед людьми всегда отвечал мастер. А фам – перед мастером.
О чем Тернелиус со своим бывшим наперсником говорил, сказать не берусь – не понял. Уразумел, правда, что пытался было старый маг чему-то подучить кота (видать, у обоих в голове червяки свербили от такой неумелой связки) и даже преуспел слегка. Уже не так тошнотворно выходило, вполне можно терпеть, не обмирая. Но все равно до той легкости, что, бывало, мы с хозяином… Э, да что там – это все равно что старую корову с молодой выдрой равнять. Только и есть общего, что четыре ноги, голова да хвост.
А вот меня мастер услышать так и не смог, сколь я ни пытался. Почему – не ведаю, во мне дело, в нем ли, в Хвосте или в Усе… Они ведь тоже честно старались, да без толку. Кот даже от великого ума предложил записку написать. Чтоб, значит, крысюк ее отнес. А тот возьми и спроси: «И кто ж писать будет?». То-то и оно, что ни у кого из нас лапы к этому делу не подходили. Крайхи бы, что ли, сюда. Да ей-то как втолкуешь? Эх, ну что за жисть – одни разговоры глухого с немым, право слово.
Но на сей раз крысюк в гости к моему хозяину идет. Пытались мы было уговориться с котом, чтоб Хвост через раз ходил – то к его, то к моему мастеру. Да не вышло. Крысюк даже объяснить не мог, почему он то легко находит дорогу в камеру, а то мечется по темным норам без толку. То ли чуял опасность какую горбатым своим носом, то ли сбивал его кто с пути – неведомо.
Сегодня, по его словам, «легкая ночь». Одна беда – легкой она была для путешествия по коридорам монастырских казарм, да не для плавания к ним. Свежий ветер, прилетевший с моря, развел изрядную волну, потому плыли мы к водостоку втрое дольше обычного. Да под дождем. Кот недоволен был – не то слово, я боялся, как бы он от злости не хватил меня когтистой лапой по башке. Да еще туч нагнало полное небо, ни звезд не видать, ни луны. Потому его мокрое благородие толком не могло командовать, куда мне править, и мы промыкались рак знает сколько времени, тыкаясь отсыревшую кладку да выискивая нужный водосток. Одна радость – за прошлые наши сюда вояжи мы привезли несколько чурбаков да веток, и из них я – ни дать ни взять бобер – соорудил у решетки что-то вроде плотинки или, вернее сказать, пристани. Так что теперь не было мне нужды по уши в воде сидеть, пока Хвост по каменным кишкам ползает. Да и коту на какой-никакой тверди удобнее было, чем на шаткой досточке, мной подпираемой. Вдвоем забирались мы на насест и сидели, пока крыс туда-обратно шастал. Только вот сегодня сидеть нам тут – не пересидеть. Ибо в набег наш длиннозубый друг ушел, скорее, под утро. Как бы быстро ни обернулся, не успеть нам до рассвета разлив пересечь да спрятаться. А по светлому времени плавать – дураков нет. Будем, значит, день тут пересиживать. Глядишь, узнаем поболее. Все же люди – существа дневные, не нам чета.
Так и вышло. Добрался до камеры хозяина Хвост быстро. Да смотреть там особо нечего было: спит себе искалеченный человек нездоровым, беспокойным сном на куче соломы.
А вот как вторую стражу на колокольне пробили, по коридору шаги затопали. Трое шли, никак не меньше. Причем двое третьего вели – у того ноги заплетались.
Лязгнул засов, без скрипа отворилась дверь (Хвост еще жаловался давеча, что тут петли в порядке держат, топленым салом мажут, и слышать этот запах никакого ему терпежа нету). И того, третьего, в камеру втолкнули.
Этот, в отличие от хозяина, был одет. Дран, правда, сильно. Рубаха некогда тонкого коттониума вся в пятнах да в дырьях, сквозь которые видно пегое от синяков тело. Штаны в прошлом богатые, из недешевого синего сукна, тоже грязны и пахнут скверно. Видать, не сдержал разок тот, кто в них, нижние свои позывы. Оно неудивительно – эвон как его били.
Даже сапоги есть, надо же, не отобрали. Не башмаки простолюдные, не ботфорты кавалерийские, а щегольские такие, не последним сапожником шитые. На одном каблуке даже подковка уцелела – эвон по камню бряцает. А с другого то ли потерялась, то ли сорвали.
Зато руки у нового узника не калеченые. То есть, водит он ими не слишком ловко – видать, заламывали, когда тащили, вот и ноют. Но не ломали их, на дыбе не выворачивали. Нет страшных узлов в суставах. Интересно, для моего хозяина это к добру или к худу?
Возрастом, заметить надо, они схожи. И даже статью. Тот, новенький, тоже молодой еще – не зеленый, а, что называется, в возраст стал входить. Усы когда-то щегольские, а теперь неопрятные, словно хвосты мышиные висят. А вот бороду он раньше брил, теперь же щетина не как не меньше пятидневной и щеки, и шею покрывает. Шею он, надо заметить, все на сторону клонит. Вроде как болит она у него. Продуло тутошними сквозняками? Зашиб кто? Мог и зашибить – под глазом фингал, да ухо в крови засохшей.
Оглядел пришелец камеру (там окошко было под потолком, узенькое, а свет все ж давало) – и вдруг выдал:
— Ну, здравствуй, Юккейм фан Лутрис. Не признал меня?
— Не имел… чести…, — ответил заплетающимся языком хозяин, не вставая. Он, ясное дело, проснулся от замочного лязга, но вставать не спешил. Оно и верно – ежели, скажем, драка, то ему сейчас сподручнее на спине лежать да ногами отбиваться.
—Имел-имел. Еще и меня, дурака, уважать ее заставил. Не помнишь?
— Нет.
— А ежели так?
Он с усилием повернул голову – скривился аж, видать, больно ему – и показал проступающий сквозь темную щетину шрам. Изрядный и уродливый. Знать, глубока рана была.
Да уж, мне ли не знать. Сам же ее и нанес тогда. На «Морской красавице».
Хозяин тоже узнал. И выдал, точно на уроке в детстве накрепко затверженное:
— Александер де Контьи, виконт ле Стала, маркиз Пьеско.
— Не виконт уже – граф. Отец – ты его, кажется, встречал – умер три года назад. Впрочем, уже, может, и не граф, — он дернул уголком рта.
Поискал глазами, на что бы сесть, но увы, кресел в казармах не было, поэтому пришлось графской заднице удовольствоваться камышом, выбившимся из-под хозяина.
— А ты, небось, думал, что во всех твоих несчастьях я виноват? – графа-не-графа тяготило затянувшееся молчание. Ну да, пережил в последнее время кучу неприятностей, попал в неприятное место, знакомого там встретил – как не поговорить?
— Я и сейчас так думаю, — неохотно отозвался мастер.
— То есть?
— То есть, у опытных сидельцев есть такое словечко – наседка. Знаешь, что это значит, твоя светлость? Или теперь уже сиятельство?
— Ну, вообще-то опытным сидельцем меня назвать нельзя. А в имении у нас наседкой называлась особая курица. Она сидела в гнезде с цыплятами – вроде няньки им была, что ли? Не знаю, никогда не интересовался крестьянским бытом. Но при чем тут мы с тобой?
— А что такое «подсадная утка», знаешь? На охоту хоть ездил? Самое ведь дворянское занятие…
Эх, может, и зря хозяин с ним беседу поддерживает. Слыхал я как-то правило – кабы не от Йорга. Или, может, от Луки? Словом, кто-то из этих душегубов опытом делился: мол, не начинай разговора с тем, кто тебе допрос учиняет. Даже на самые безобидные темы. Зачнешь – не остановишься, не заметишь, как пойдешь выбалтывать важное. Но и понять его могу – тоже ведь в каменном мешке, один-одинешенек, а тут вроде знакомый.
— Про подсадную утку знаю. Постой-ка, ты хочешь сказать, что я сюда явился что-то у тебя выведывать?
— Вы оскорблены, ваша сиятельность? На дуэль вызовете?
— Удивлен, скорее, — выдавил де Контьи, хотя, кажется, соврал. – Не много ли чести было бы?..
— В самый раз. Особенно если граф – бывший.
— А я для достоверности дал себя избить?
— Чего не сделаешь ради дела? Да и синяки нарисовать – большого искусства не надо.
— Можешь пощупать. Вложить, так сказать, персты.
— Можешь поцеловать меня в задницу, — ровным голосом ответил хозяин.
— Не понял? – на этот раз де Контьи вправду удивился, а не обиделся.
— Сюда посмотри, — мастер слегка пошевелил изуродованной рукой. – Что куда я вложить могу?
— Понятно.
Александер поднялся и прошелся по камере из конца в конец. Шагов пять там было, не меньше – гуляй в полное удовольствие.
— Ладно, не хочешь пока говорить – слушай. Верить или нет – дело твое. И – да, я понимаю, что нас тут могут подслушивать. Может, на то и расчет был, когда меня к тебе сунули. А, может, и не знали о нашем с тобой знакомстве. Только вот за ту дуэль я на тебя зла не держу. Хотя ты и погубил Ференца, а я его с детства знал. Этот медведь… Он всего лишь защищал того, кого должен был защищать.
— Значит, должен был быть и готов умереть, защищая. Работа у него такая… была. Убивать, а если не повезет, то умирать…
— Знаешь, так мне и сказал отец! Почти слово в слово. Когда узнал, как дело было. Я мог бы ему наврать, да не посмел. А когда он узнал, что ты еще и сопричастен искусству был, но пустил его в дело, когда не было другого выхода, а до того говорил со мной языком стали… Старик назвал меня малоумным. Ты, говорит, мог получить верного и ценного друга, а получил врага – может быть, на всю жизнь. И ведь прав был. Я жалею, что тогда мы не подружились. Думал исправить это, когда вы вернетесь из похода на Урфхорден. Капитан Олбрект цу Бреер на самом деле был моим человеком. Ему приказ был тебя беречь. А он и вовсе не вернулся, так?
— Так.
— Почему?
Ага, вот уже и дознавательство начинаестя. Эх, хозяин, ну почему ты меня не слышишь, а? Не чувствуешь? Я б хоть бы чуток твоей боли на себя взял. Или это потому, что ты меня прогнал? И связи между нами нет теперь? И никакой я уже не фамилиар, а так, не пойми кто? Но вон кот же Тернелиуса слышит? Или, может, у них со старым магом другое какое расставание вышло?
— Так почему?
— Убили его.
— Кто?
— Не знаю. Не видел. Он с лошадьми оставался, пока мы… на разведку ходили в место… одно… особое. Когда вернулись – он убит, лошадей нет…
— А двое парней, что с ним были? Почему они раньше вас вернулись?
— Отослали их… с особым поручением. Может, и повезло парням. Иначе там же полегли бы. Не сумели бы отбиться. Из леса стреляли… по капитану-то…
— А по вам почему не стреляли?
— Не знаю. Может, пугнуть хотели. Чтоб мы в Кальм вернулись поскорее. Где нас и можно было брать. Живыми.
Помолчали.
— Слушай, ты ведь колдун? Почему не развалишь эту тюрьму по камушку, не сбежишь?
— Проверяешь? – хозяин чуть слышно хмыкнул. — Потому что не могу. Скажем так, у всякого, как ты выражаешься, колдуна есть свои возможности, свои пределы. Обычный человек может унести мешок муки, сильный – два мешка, богатырь – пять. Ты хоть знаешь, что такое мука? Или графьям не положено?
По-моему, он нарочно дразнил Александера. Авось, тот в запальчивости что важное брякнет. Но бывший виконт, а ныне граф явно поднабрался выдержки со времен нашей последней встречи. Или предпоследней, если считать ту, за столом у герцога.
— Ничего я тебя не проверяю. Любопытно. Мы ж в одной лодке. И в одной камере. Может, мне неохота под падающие булыжники угодить, когда ты начнешь сие обиталище боевых монасей раскатывать. И да, я знаю, что такое мука. Даже, представь себе, на мельнице бывал. И видел, как там мешки таскают.
— Ну, раз видел… Тогда скажи, видел ли ты самого сильного силача, который мог бы унести мельницу целиком?
— Не видал. Ты хочешь сказать, что колдовством также нельзя разрушить здание? А как же вера, которая горами движет?
— Не видал, — в тон ему ответил хозяин. – Ни веры такой, ни колдунов, чтоб могли замок развалить. Тут порох сподручнее.
— Жаль. А то я уж думал тебя попросить. Но ведь Ференца моего ты уходил, а? Кровь ему отворил так, что и дух вон? Дело прошлое, чего там…
— Я, — не стал отпираться мастер.
— А тогда почему этих… тюремщиков так же не можешь? Уложил бы одного за другим – да хоть бы когда тебе обед приносят. Пусть бы они подыхали, а ты б вон вышел.
— Ты когда-нибудь стрелял?
— Конечно.
— Что нужно сделать, чтоб в белый свет пульку не послать?
— Прицелиться, конечно.
— Вот так и мне нужно было прицелиться, чтоб кровь отворить твоему медведю.
— Так есть же, вроде, умельцы, что навскидку бьют…
— Считай, что я не из их числа. Мне хотя бы пару вдохов надо, чтоб разглядеть внутренние реки человека. Они все чуть-чуть, да разные. Опять же, чем ближе… мишень, тем проще попасть. Тут тоже как в стрельбе. И перезаряжать надо – а это время. И порох может кончиться… И цель может сдвинуться так, что выстрел мимо пройдет…
— Ага, поэтому ты все же выучился и железом махать.
— Да, и поэтому тоже. И чтоб не всякая собака, на глазах у которой я кого-нибудь прикончу, сразу могла понять, что я – колдун.
— Значит, боец из колдуна неважный, так?
— Почему же? – в голосе хозяина послышалась даже обида. Это хорошо, как на мой взгляд. А то все говорил тускло-тускло, безразлично так, словно на все ему наплевать. – По-моему, тогда, на «Морской красавице», твоя светлость основательно получила по ушам. И если бы не мордовороты, ходить бы тебе с дыркой в шкуре. Кстати, убивать тогда я тебя не собирался.
— Премного благодарен, — по-моему, граф даже ножкой шаркнул, точь-в-точь слуга, что пытается без особого толку воспроизвести господскую куртуазную манеру в разговоре с поселянкой у сеновала. – Но я не про то, хотя фехтование твое… Ладно…. Я про то, что при встрече с врагом глаза в глаза, когда он тебя продырявить готов, сталь или, скажем, свинец надежнее выходит, так?
— Так.
— Но, скажем, для наемного убийцы твое умение может пригодиться?
— Может… вообще. Только это ж не каждому дано, и если ты причастен к искусству, идти в душегубы заугольные – это все равно что алебардой лес валить. Или капусту шинковать. Можно, но глупо. Знаешь, что такое «капуста».
— Да знаю, знаю… А вот скажи… Наше прежнее величество такой интересной смертью померло. Не твоя, часом, работа?
— Меня в то время и близко не было. Проверить можешь…
—- Не могу, увы. Отсюда затруднительно справки наводить, — граф повел рукой, словно призывая собеседника оглядеть грубую каменную кладку, оценить ее надежность и непроницаемость для разговоров и писем. – Мне, если честно, совсем не жаль покойника. Еще ведь его папаша вашу братию принялся под корень выводить, так?
— Говорят… Я тогда мальцом еще был.
— А знаешь, почему?
— Нет.
— А потому, что некая гадалка предсказала этому венценосному скоту, что и род его, и самая держава могут пресечься от колдовства. Вот он и обеспокоился. С предсказательницы и начал, получив на то благословение матери нашей Святой Церкви. Сынок, правда, не столь ретив был, но от папашиного завета не отказался. И вишь какое дело – права оказалась гадалка. И Максимилиан II преставился не без помощи вашего брата, хоть и говорят, что от удара, и держава его ныне трещит по швам. А ты, значит, ни при чем?
— Нет.
— И не можешь ничего сейчас?
— Нет.
Свои «нет» хозяин ронял, словно тяжкие камни в колодец. И, вроде бы, все эти «неты» ему только в пользу шли – мол, невиноватый я ни в чем, так, мимо проходил. Только мне слышно было, как нелегко даются признания – он-то привык себя сильным чувствовать, умелым да храбрым. А тут эвон как.
— А почему?
— А потому! – озлился, наконец, мастер. – Видал, что с руками у меня? А без рук любой колдун… как без рук, — он невесело усмехнулся невольному каламбуру. – Да и не в том одном дело. Вот ты говоришь, стрелять тебе доводилось. А напиваться в хлам случалось? Так, чтоб лыка не вязал, чтоб перед глазами плывет, ноги не держат, во рту точно стадо коров нагадило, а в башке звон колокольный?
— Ну… благородным дворянам не пристало…
— Ой, брось, видал я таких благородных, что рядом с ними пьяный кабатчик – образец добродетели. Так было, напивался?
— Ну, случалось…
— А пробовал стрелять в таком состоянии?
— Не упомню, — раздумчиво сказал светлость, словно и в самом деле припоминая и даже опасаясь, что сейчас окажется: он и в самом деле по пьяни кого-то там пристрелил, и этот неблаговидный поступок нынче окажет на его судьбу совсем не то воздействие, что хотелось бы.
— Ну, хоть представить себе можешь, каково это – стрелять с такого вот перепою? Или фехтовать? Да хоть писать!
— Могу. Выйдет очень плохо, я полагаю.
— Да вообще ни хрена не выйдет! – тут мастер употребил оборот, что более подошел бы сапожнику. Или хоть вот боцману с той самой «Морской красавицы», век бы ее не видать… — А меня в таком состоянии все время тут держат.
— Как это? Поят, что ли? – неподдельно удивился де Коньти и даже воздух потянул. Не запахнет ли винцом, хоть и дрянным?
Но я-то пораньше человека обнюхал – пусть и чужим, крысиным носом – всю камеру. Чем-чем, а хмельным в ней не пахло.
— Ишь ты, поят… Как же, будут на узников вино переводить, — хозяин, кажется, даже развеселился от такого предположения. Не слишком, а так, самую малость. – Другие есть средства человеку голову затуманить, чтоб света белого не видел. Та же боль. Думаешь, сладко, когда с руками вот эдак? – и он повел искалеченным плечом.
Эх, хозяин, мне б с тобой сейчас в связочку, пусть самую поверхностную, я б твоей боли на себя взял, сколько вынес бы. Да потом еще столько же – глядишь, ты и сумел бы что удумать. А так – от слов твоих у меня в нутре словно злой рачище все клешнями рвет, а тебе от того не легче.
— Впрочем, — продолжил хозяин, — к боли даже привыкнуть можно. Научиться ее терпеть. Если я током чужих жидкостей управлял, то и свои бы худо-бедно обуздал. Но меня еще регулярно накачивают какой-то дрянью, от которой голова плывет.
— Как накачивают? Поят?
— А через задницу. Приходят пара дюжих ребят, вроде твоих мордоворотов-телохранителей, и еще один… умелец. Творец, видать, сего чудодейственного эликсира. И клистир ставят. У хорошего палача, говорят, и зубы не особо-то сожмешь, если тебя напоить задумают – нос зажмет, воронку вставит. Ну а задницу я и вовсе сжимать не умею. Увидишь еще. Хотя зрелище неприглядное…
Ну, держись, клистирщик. Увижу, каков ты есть – да потом в городе и найду. И кишки выну. По одной. Через задницу и вытащу. А потом и тебе, хозяин, помогу. Или зря меня Хитрым зовут?
***
Никакой я не Хитрый. Тупой я. Глупый. Дурной. Малоумный. Пустоголовый и беспамятный. Иначе как объяснить, что раньше не додумался до такой простой вещи?
Ведь сколько клял себя и судьбу, сколько плакал оттого, что хозяин даже не знает, что я рядом. Что весточку ему не подать. Как завидовал Фомусу с его Тернелиусом (ишь ты, оба с усами, да и с усами, надо же!), что они друг друга чуют, в связку входят, а я с Юкки не могу.
Уж не помню на какой раз, возвращаясь из казармы «домой», то есть в подвал сгоревшего дома, обратил я внимания на свои следы в мягкой илистой почве у берега. Первым делом подумал, что надо бы вернуться и их затереть. Хоть бы и собственным брюхом. А то сыщется опытный охотник, поймет, что выдра тут, в окрестностях города ходит, да и устроит засаду. То ли на шкуру мою польстится, то ли решит просто очистить берег от опасного хищника. Есть такое суеверие глупое у двуногих – мол, мы и рыбу всю в реке повыведем, и на человека нападем да покусаем… Посчитать бы еще, сколько людей выдры погубили да скольких выдр – люди. Еще вопрос, кому кого больше не любить да бояться.
Даже остановился я, все эти думы думая.
— Ты чего? Следов своих никогда не видал? – спросил меня крыс. – Или боишься, что тебя по отпечатку хвоста кто-нибудь узнает?
Тут-то меня словно волной по башке долбануло.
— Узнает, — говорю, — еще как узнает! – Эй, Кот!
— Чего тебе? — усатый очень недовольно обернулся. После этих наших рейдов у него всегда прескверное настроение. Небось, если у меня от его связки все нутро словно кривыми узлами завязано, так и ему не слаще. Обычно шли домой, друг на друга не глядя и не разговаривая, добредали с трудом да спать заваливались, чтобы выгнать из мозгов теплую мерзкую муть.
— У тебя бумага да чернила найдутся?
— На кой хвост? Ты что, писать собрался?
— Вроде того. Весточку хозяину передам.
— Письмо напишешь? – желто-зеленые глаза глядели по-прежнему недоверчиво и с какой-то снисходительной насмешкой, а длинный белый ус на левой стороне морды недовольно дергался.
— Вроде того, — повторил я. – Лапы чернилами намажу да отпечатки на бумаге и сделаю. Хозяин говорил, — я не побоялся употребить это слово, столь нелюбезное бывшим фамилиарам, — что мой перепончатый оттиск всегда узнает. А Хвостик бумажку и отнесет.
Кот остановился, как мордой на стенку налетел. Сел посреди дороги, растерянно лизнул переднюю правую, будто умываться вдруг затеял, но не донес ее до морды. Перевел взгляд с меня на крысюка и обратно несколько раз…
— Ох и дураки ж мы! А я – наипервейший среди вас дурачина, — выдал он, наконец. – Давно можно было так сделать. Да и Хвостик через нас с тобой кое-что твоему передать сможет. Сможешь, Хвостище?
— Попробую, — неуверенно ответил крыс. – Только знаешь, от твоего колдовства у меня, похоже, кишки с мозгами местами меняются. Так что дорогу еще могу находить, а вот говорить… Пасть не слушается почти, как ее клеем набили.
— Ну, хоть попробуешь, — несколько сдал назад кот. И уже мне:
— Бумагу, может, и найду какую, а вот с чернилами, извини, плохо дело. Но ничего – мы тебе лапы углем вымажем. Уж этого добра навалом.
Тут с ним не поспоришь. Чего-чего, а угольков на старом пожарище хватало, чтоб пол-Кальма перемазать. Бумаги вот не нашлось. Зато в подвале сыскалось старое кресло с кожаной обивкой, уже подгнившей, правда, и грязной снаружи донельзя. Но мы ее совместными усилиями содрали, и с изнанки она оказалась пусть не белой, но все же вполне годной для письма. Ученый кот даже с умным видом сообщил нам, темным, что в прежние времена люди и вовсе бумаги не знали, а для книг брали кожи козлов да овец.
Что за зверь расстался со своей шкурой ради кресла, я определить не смог, — может, бык, а может, свин простой. Да мне и все равно было. Но, думаю, помер бедняга все же не зря, пусть даже по его бывшей «одежке» много лет елозили человеческие зады. Зато теперь на шершавой бахтарме я по нескольку раз оттиснул все свои четыре перепончатые лапы и даже кончик хвоста. Потом, правда, пришлось чуть умерить аппетит и выгрызть небольшой кусочек – чтоб Хвост донести сумел. Он был, как и многие фамилиары, крупнее своих диких сородичей, но все же крыса – животное мелкое. Да еще тащить по длинным переходам. Подумав еще разок на троих, мы в центре послания проделали дыру – чтоб крысюк смог его надеть на шею наподобие воротника, а потом скинуть.
И все равно письмо ему здорово мешало в пути. Раз чуть не застрял, зацепившись за какой-то выступ. И шел вдвое, пожалуй, дольше обычного. Но не бросил ни дела, ни послания, добрался-таки и, пока оба узника спали, подполз к самой голове Юкки и оставил там кожаный лоскут. А сам забрался в нору – смотреть, чем дело кончится. Тут я запоздало подумал, как обидно будет, если хозяин не заметит письма. Размер-то небольшой, да в камере темновато. Правда, я на всякий случай еще и потер письмо об основание хвоста. Нет, не задницу подтер. У диких выдр, а также у дальних наших родственников – куниц, горностаев, соболей – там, у самого хвостового корня, имеется пахучая железа. Две железы, вернее. Территорию метить, самке (ну, или самцу) сигнал подавать, а то и об опасности собратьев предупредить. Когда люди выводили мою породу, они постарались сделать так, чтоб фамилиар вонял поменьше. Но совсем избавить нас от запаха не смогли.
И вот хозяин, проснувшись, первым делом повел носом. Привстал, всмотрелся – и заорал так, что, может, и за дверью слышно было:
— Хитрый! Ах ты ж выдрин сын! Нашел меня! Нашел, дружище! Нашел!!!
Заплясал даже, хотя видно было, что плясать ему больно.
И тут я понял, что дело сладится. Не знаю, какое, не знаю, как, а сладится. Но, главное, это же понял хозяин.
Продолжение следует…