(5)
Между уроками я сижу за столом в большой комнате с десятком других учителей, жующих бутерброды с ветчиной, исправляющих ежедневные квизы (quizzes), т.е. контрольные работы, и на всю комнату объявляющих об успехах или неудачах своих учеников. Мне так действует на нервы весь стиль их разговоров, даже то, как по советски звучат их голоса, не дающие мне сосредочиться на моих мыслях, что я просто терпеть не могу находиться в этой комнате в свободное от уроков время. Почему я должна тратить свою жизнь на сидение в этом учительском бараке на верху холма, говорю я себе, раз самая большая русская программа находится под холмом, в длинном зеленом бараке, в котором учительские комнаты такие маленькие, что в каждой хватает места только на два или три учительских стола? Между занятиями, говорю я себе, мне нужно отдохнуть и собраться с мыслями, но как я могу собраться с мыслями на фоне этого постоянного гула голосов?
Учителя ко мне относятся как будто я одна из студенток, потому что я примерно того же возраста, что наши ученики, даже на несколько лет моложе многих, а учителя другое поколение, лет на двадцать или двадцать пять старше меня. Если я утром прихожу на работу на несколько минут позже, они стоят у входа, показывают на часы и мрачно сообщают, что в следующий раз я должна быть поосторожней, потому что наша супервайзерша всё знает – когда кто приходит, когда кто уходит, от неё ничего не скроешь, и если я когда-нибудь опоздаю хоть на один из своих уроков, у меня будут такие неприятности, что я всю жизнь буду им благодарна за предупреждение и совет.
В самом конце комнаты, среди жующих и орущих учителей сидит женщина лет шестидесяти, по имени-отчеству Вера Алексеевна. Каждый день во время ланча Вера Алексеевна предлагает мне киви, и наблюдая как я ем этот так называемый экзотический фрукт, она говорит, что и в ее жизни был первый киви, что также как и я, она не знала что такое преподавание, когда много лет назад впервые вошла в класс, полный студентов. Но, говорит Вера Алексеевна, она достаточно быстро научилась преподавать и так полюбила свою профессию, что годами не могла спать дольше четырех утра, потому что в ней так горело желание учить, что оно будило ее посреди ночи. Вера Алексеевна не присоединяется к разговорам других учителей, и когда мы одни в комнате, она говорит не обращай, мол, на них внимания, им хочется напугать тебя всей этой чепухой, но они ничего не могут тебе сделать; среди них есть разные люди, есть среди них люди с таким прошлым, что… Она замолкает на полуслове, и когда я спрашиваю, о каком именно прошлом она говорит, гвалт в комнате возобновляется, и почему-то сегодня его эпицентр находится как раз у ее стола, поэтому я возвращаюсь к себе, наспех вставляя комочки туалетной бумаги себе в уши вместо затычек, чтобы шум не слишком действовал мне на нервы.
В один прекрасный день другой учитель слышит, как я рассказываю Вере Алексеевне о комнате с блохами, которую я снимаю в доме Паулы, то есть комнату снимаю, не её блошиное население, и говорит, что видел дом с объявлением о недорогой двухкомнатной квартире недалеко от нашего института и если я хочу, он может мне его показать после работы. И вот, после работы мы с Александром Зайцевым отправляемся на поиски дома с квартирой. Мы так долго идём, что я начинаю задаваться вопросом – a не выдумал ли Зайцев всю эту историю про дом, а может, и нет никакого дома с квартирой, хотя есть множество домов, мимо которых мы проходим, не останавливаясь, и которые, по словам Зайцева, не стоят нашего внимания.
– Вы говорили, что этот дом недалеко от работы.
В ответ Зайцев глубоко вдыхает монтерейский воздух, говорит «А-а!», затем добавляет, что он уже много лет не чувствовал себя так хорошо, как в эту минуту, будто груз последних двадцати лет его жизни свалился с его плеч, будто ему снова двадцать, и теперь, без этого груза, ему стало так легко, он мог бы идти и идти! Он дает мне понять, что именно я причина того, что он снова почувствовал себя молодым, и с этого момента мы идём молча, не потому, что я подозреваю, что Зайцев с его советским костюмом и странной манерой выдумывать чушь о свалившемся с его плеч грузе может причинить мне какой-то вред, a потому что я устала и меня раздражает хорошее настроение Зайцева и мне не хочется ни о чем говорить.
– Вот! – Он машет в сторону небольшого беленого дома, будто приветствуя его. –Красиво, а?
Домик и правда симпатичный, но что это за записка на двери? Я подхожу ближе и читаю: «Уважаемый домовладелец, я пришел в 15.00, чтобы посмотреть квартиру по объявлению, но вас не застал. Не могли бы вы позвонить мне и сообщить, когда вы вернетесь, чтобы я мог ещё раз прийти и взглянуть на квартиру? Мой номер телефона –».
– Похоже, мы опоздали.
– Это небольшое препятствие, – говорит Зайцев, – вполне преoдолимо.
Он быстро снимает с двери чужую записку, рвет её на мелкие кусочки и кладет их в карман. Потом, как орёл, хищно сощурившись, осматривает местность, и убедившись, что никто не смотрит, гордо объясняет:
– Закон джунглей!
Он говорит, что вместо этой, разорванной им только что на клочки записки, мы должны прицепить к двери свою записку, а я стою рядом и ничего не говорю — может, потому что у меня замедленная реакция, или, может, я настолько сбита с толку тем, как он разорвал записку, что я, говоря языком полу-забытого детства, уже не знаю что такое хорошо и что такое плохо.
Но прежде чем Зайцев успевает прицепить к двери новую записку, в окне соседнего дома появляется чья-то голова и раздаётся крик: — Это было не очень хорошо, то, что вы только что сделали!
Мне стыдно за Зайцева с его законом джунглей и за себя, стоящую рядом, пока он рвал на мелкие кусочки чужую записку. Темнеет, и Зайцев, как настоящий джентльмен, предлагает проводить меня домой, но к счастью, как раз в этот момент мимо нас проезжает автобус, замедляющий ход к остановке на следующей улице. Я бегу изо всех сил, и когда вбегаю в автобус и за мной закрывается дверь, узнаю, что еду не в ту сторону, но почему-то меня это не очень волнует. Чувство облегчения от того что я ускользнула от закона джунглей, не покидает меня весь вечер.
(6)
Журков возвращается с урока, небрежно бросает свой потрёпанный красный учебник на стол и наблюдает за Валерием, погруженным в Скиннера. Я сижу молча, положив голову на руку. Что-то в этой безмолвной сцене раздражает Журкова. Возможно, он считает себя человеком действия, и ему неприятно находиться в комнате с двумя неподвижными коллегами. Или, может быть, он искренне хочет видеть меня веселой и счастливой, тем более, что я сижу за столом, зa которым раньше сидела Лина. Кто знает, может, он говорит правду, когда утверждает, что он чувствительный человек, такой чувствительный, что ему становится не по себе, когда мрачные мысли путешествуют с одного стола на другой.
– Мрачные мысли? Что за мрачные мысли? У кого?
– Ах, – говорит он, – откуда мне знать, что за мрачные мысли у тебя в голове, ведь, к сожалению, не я твой счастливый избранник, тот, которому ты должна сообщать все свои мысли, юная леди. Разве не так, Валерий?
Но Валерий не реагирует. Валерий погружен в своего Скиннера.
У Журкова странная привычка подтягивать штаны, как будто он до сих пор не совсем освоил сложное искусство использования ремня. А ещё у него тонированные очки, смесь коричневого и фиолетового. Он заходит в наш офис в перерывах между уроками, садится, и откидываясь на спинку стула, обозревает тусклую комнату чрез свои коричнево-фиолетовые очки, и время от времени делает короткие заявления, чтобы показать, какой он, Георгий Александрович Журков, эрудированный человек, и как много человечество теряет из-за того, что такой человек, как он, человек с таким образованием, должен гнить в этом поганном Институте Языков со всеми нами, бедными неудачниками. Он открывает рот и изо рта вырывается:
– Джордж Сименон!
И через минуту: – Жан Жене!
Затем он говорит, что надо смешать продуктивность Джорджа Сименона с жизненным опытом Жана Жене; он загадочно улыбается и отказывается назвать автора, который получится из этой взрывчатой смеси. Он называет наш офис Интеллектуальной лабораторией и говорит, надо признать, что мы, обитатели лаборатории, отличаемся от обычных сотрудников DLI не меньше, чем Homo Sapiens отличаются от обезьян. Иногда мы с Журковым так шумим, будто кроме нас в комнате никого нет, а всё это из-за того, что Валерий так поглощен своим Скиннером и Лэнгом, что он ничего на замечает, и сидящие в соседнем офисе коллеги уже стучат в стену, требуя, чтобы Валерий навел порядок и тишину, как будто мы дети или подростки, а Валерий – единственный взрослый среди нас. Но Валерий не наводит порядок и тишину, не потому что он такой добрый, а потому что мир для него не существует, когда он вот так сидит за своим столом и не отводя глаз от своего Скиннера или Лэнга, подчеркивает самые важные предложения красными, синими и зелеными фломастерами. Красный – для самых глубоких высказываний, синий для очень важных, а зеленый – просто для памятных. Валерий очень умный, вот почему он изучает английский язык по таким сложным книгам.
– Эти книги, – говорит он, кладя руку на бумажную обложку Скиннера, – повторяю, в этой глуши, именуемой Институтом Языков Обороны США, нет ни одного человека, чье интеллектуальное развитие было бы на уровне, необходимом для понимания этих книг, и не потому что эти книги на английском, а потому что просто не доросли до них.
Валерий всё время ищет слова в толстом англо-русском, русско-английском словаре, который у него всегда под рукой, на стопке контрольных работ его учеников. С очень серьезным выражением лица он выписывает каждое новое слово на карточках. Когда он в роли преподавателя стоит перед своими студентами, он вынимает десять или пятнадцать карточек из нагрудного кармана и читает каждое слово вслух, очень громко, с явным русским акцентом, чтобы его рядовые-юноши и рядовые-девушки, как он называет своих студентов, исправляли его произношение умных слов и выражений, таких как, например, “the aversive no” и “operant conditioning” и “аuthentic self”. Он коверкает английские слова с таким удовольствием, что ритуал его коверкания английских слов и студенческие исправления этих же слов, всегда следующие за его коверканием, становятся своего рода легендой, которую ученики Валерия рассказывают другим, менее удачливым студентам, тем чьи преподаватели не приобщают их к своим интересам к гештальтной психологии и чьё произношение трудных английских слов не заставляет их покатываться со смеху в классе. Когда Валерий произносит “operant conditioning” на свой неподражаемый лад, он гордится тем, что знает такие слова, хотя бы потому что другие преподаватели даже не подозревают о их существовании, ведь в Советском Союзе не было психологии, так Валерий говорит своим ученикам, а они говорят друг другу, что Валерий очень странный русский человек, но смешной, а другие русские учителя, слушай, чувак, они ведь как динозавры из девятнадцатого века, они живут не в реальном мире, а в каком-то своём.
Наша начальница знает, что Валерий читает книги на работе, но не смеет ничего ему сказать. Однажды мимо барака, в котором мы обычно ведём уроки русского языка, проходил начальник другого отдела института, который никогда не слышал ни о самом Валерии ни о его славе в нашем отделе, и этот вот начальник сказал, «какой неприятный сюрприз – видеть федерального служащего, погруженного в постороннее чтение на работе за счет налогоплательщиков». Валерий ответил, что нет большей чести для американского правительства, чем материально поддерживать такого человека, как он, пока он осваивает язык своей новой страны и знакомит юношей и девушек этой страны с красотой психологической мысли. Начальник поворачивается, чтобы уйти, но не успел он ещё как следует отойти от нашего барака, как Валерий говорит, вот так улепетывают большие шишки, когда им нечего сказать, и впервые в жизни я сочувствую начальнику, спина которого мне кажется такой уязвимой и который навсегда покидает наш отдел и всем совершенно ясно, что он больше никогда сюда не вернется, и слава богу.
Журков говорит, мол, на месте Валерия oн бы, вообще, не стал приходить на работу, oн бы дал американскому правительству понять, что материально поддерживать его самого и его любовь к книгам в комфорте его собственной квартиры важнее какой-то там работы, кому она нужна, черт её побери. Валерий не реагирует на слова Журкова, и когда Журков уходит, он мне говорит, что если я когда-нибудь захочу узнать, как заткнуть рот неразвитым типам, таким как этот Журков, то помни, лучше всего срабатывает просто игнор.
Но когда Журков возращается, он доказывает неэффективность этого метода и снова начинает дразнить Валерия, как ни в чем ни бывало, то есть, как будто Валерий его вовсе и не игнорировал весь день.
– Как вы думаете, Валерий, не проморгал ли я свое призвание?
И когда, следуя совету Валерия, я тоже игнорирую его, он говорит: –Не правда ли, Маша, Валерий должен был стать художником, посмотрите, как он раскрашивает страницы своих книг – красным, синим, зеленым, желтым, и посмотрите, как он серьезно к этому относится, как он поглощен! Ей богу, в нём пропадает художник, и кто знает что ещё в нем пропадает!
Пока я думаю о том, почему Валерий называет Журкова ничтожеством или почему Журков обращается ко мне со своими шутками про Валерия, Валерий поднимает глаза от книги, целится красным фломастером в Журкова и спрашивает очень тихо, чего именно Журков добивается, пытаясь подставить подножку своему соседу?
Журков печально вздыхает, ах, Валерий, ах, Валерий, и после этого уже больше не шутит и не дразнит Валерия. Молчание воцаряется в нашем офисе, потому что Журков теперь уходит в Сержантский клуб проверять тесты, и в нашем офисе теперь только я да Валерий со своим Скиннером, и я даже не знаю, что он имел в виду и что это за подножка такая и кто кому её подставляет?
Окончание следует…

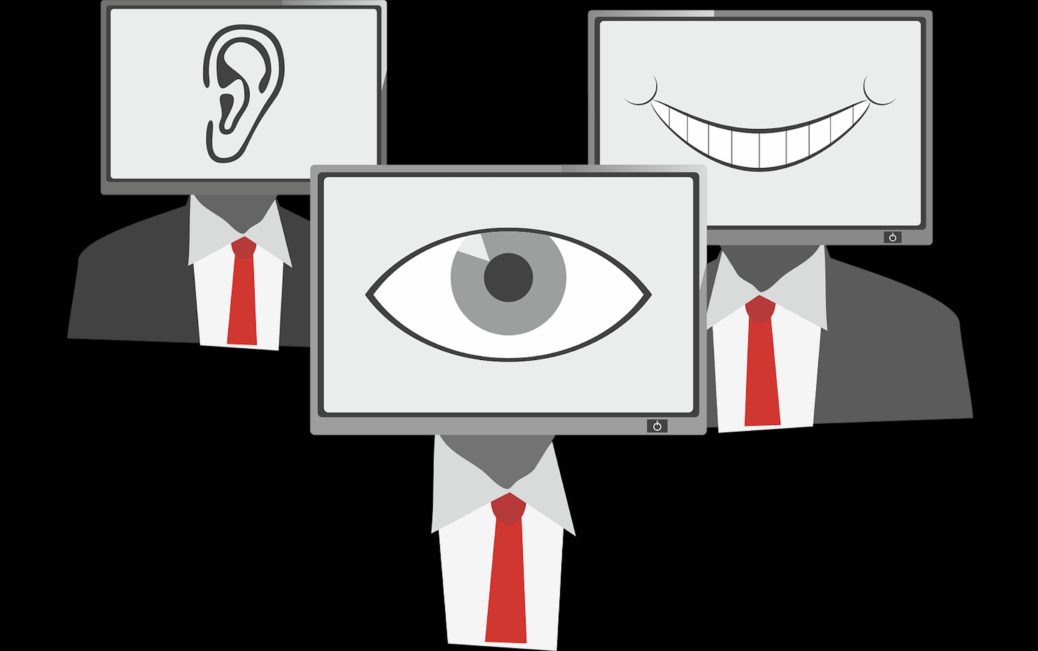



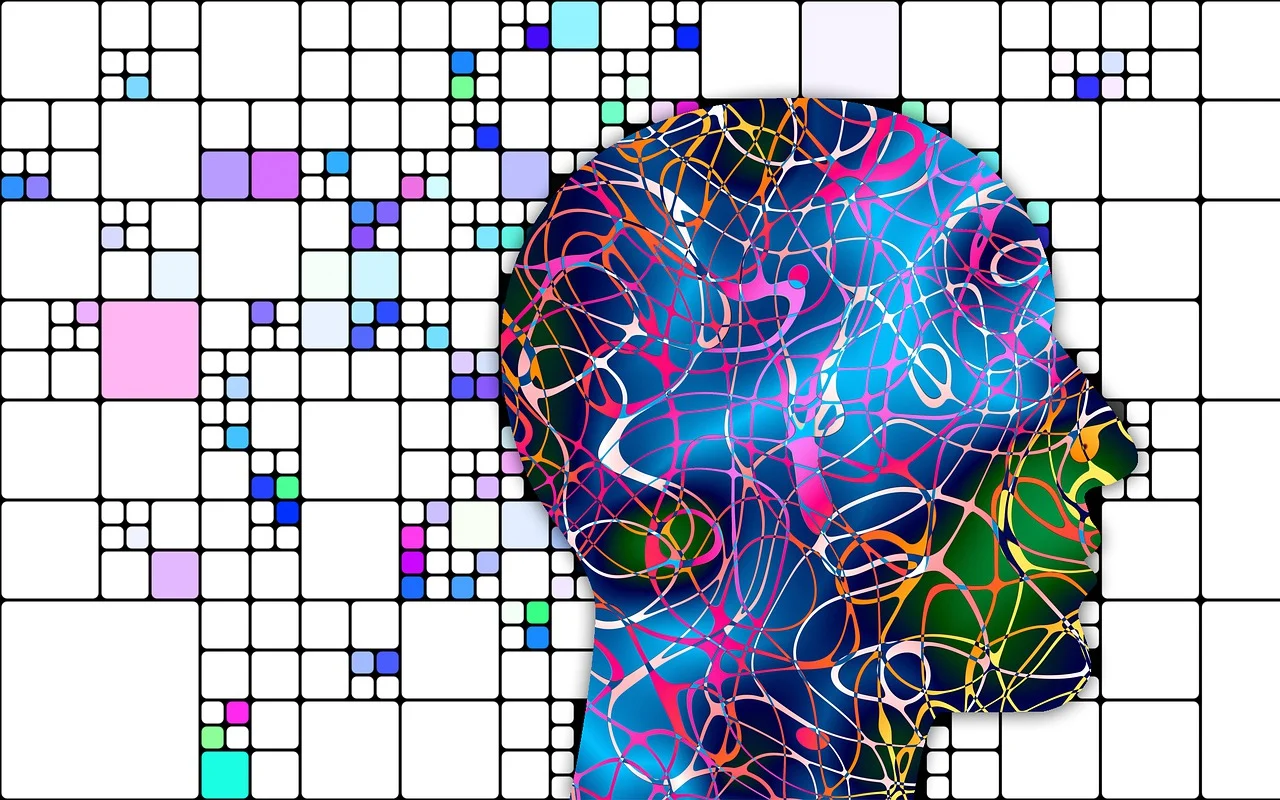










Очень понравилась эта проза!..