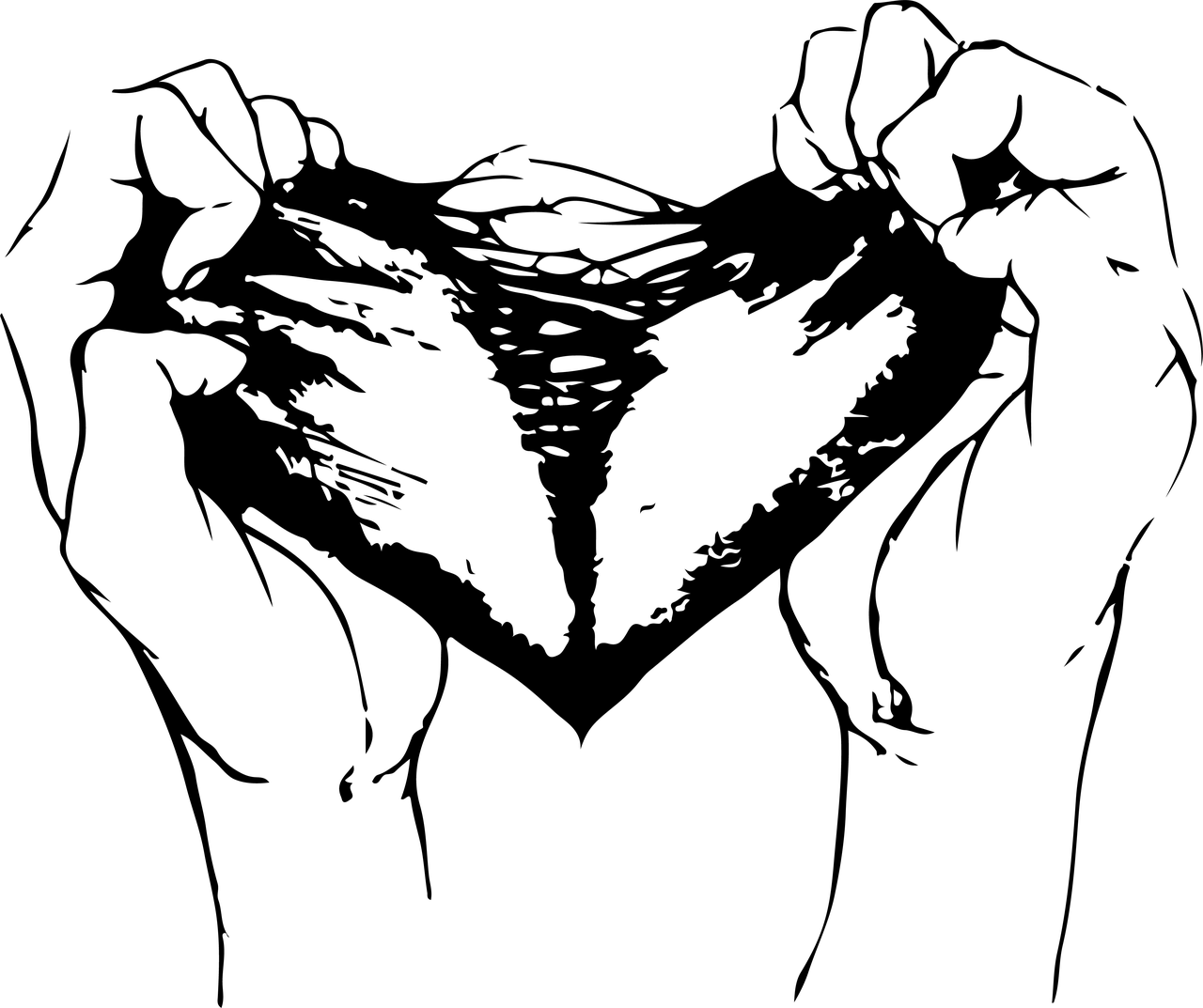На другой день, а это было воскресенье, мы с Гришей решили поехать купаться на Байкал, но, ввиду исчезновения указателей и нежелания Гриши включать навигатор, оказались не на нужной нам дороге, а ведущей в Улан-Удэ. Недолго думая, мы отправились туда. Погода была по-прежнему сырой и холодной, не располагающей, на самом деле, к купанию.
Я позвонила своему знакомому, Батору, в Улан-Удэ, и сказала Грише, что мы встретимся с таким и вот таким Батором, и ещё и попросим его объяснить нам дорогу в тибетский дацан Ринпоче Дагша на Лысой горе. Буряты мне много раз советовали посетить его раньше, когда я бывала в Улан-Удэ. Гриша нашёл такую программу интересной. Мы ехали час по федеральной трассе.
– И что я вам сдался, узкоглазый налим? – обратился Батор ко мне, приветственно обняв. Как было бы интересно, если бы чёрные в США говорили белым: «И нафиг мы вам, чёрные скользкие нигеры?».
Батор был золотая молодёжь советской поры, и сейчас самый что ни на есть золотой старик. Он оглядел незнакомого ему Гришу, всегда улыбающегося в себя, неопределённо, бледнолицего, не успевшего ещё загореть на солнце из-за ненастного начала лета, и остался Гришей доволен.
– Вы видели памятник Матери Бурятии? – спросил.
– Да, – ответил Гриша. – Видели. Я здесь ни разу не бывал за рулём, но как-то удивительно быстро мы нашли дорогу сюда, где вы назначили встречу. Мы из пригорода выехали прямо на памятник Матери Бурятии. А что же вы в маске, Батор? Снимите.
Батор опустил маску послушно под подбородок.
– Жена мне строго-настрого наказала, чтобы я в маске ходил. Так заметнее, что я узкоглазый. Идёмте к театру оперы и балета, побеседуем.
Маска у Батора была чёрная, капитальная, какие надевают охранники и, в целом, ответственные лица. Батор рослый и крепкий, не выглядел на свои восемьдесят лет. Он был одет строго и добротно, и туфли его были заметно дорогие.
Мы посмотрели в сторону театра, и Гриша предложил:
– Давайте, сначала снимемся у самой большой головы Ленина в мире.

Мы пошли мимо Дома правительства на площадь Советов к самой большой голове Ленина в мире. Узкоглазой. Дул сильный северо-западный ветер, то нанося облака, то открывая от них солнце. Контрасты светотени сменялись почти мгновенно. Площадь расположена высоко, ветер здесь властвует, чтобы людей сдувало, но был воскресный день, и дети катались на роликах и велосипедах, проходили пары с закрытыми детскими колясками. Я сняла Гришу, рукой указавшего на запад, как это делал Ленин на тех памятниках, где у него были руки. Гриша решил купить мороженое и предложил Батору, но тот решительно замотал головой, отказываясь. Сейчас и вправду, стоит заболеть горлу, как загребут в больницу.
Я помнила из детства, что в Улан-Удэ всё очень вкусное, и поддержала Гришу. Он купил два мороженых в остроконечных рожках. Мы принялись есть, двигаясь к театру, а Батор смотрел на нас довольный, что нам нравится здешнее мороженое. Мы перешли улицу и Батор показал на бронзовых танцовщиков:
– Лариса Сахьянова, Пётр Абашеев, супруги. Я мальчиком смотрел из-за кулис, как они танцевали. А мать моя пела в хоре. Я вам покажу место, где лучше сфотографироваться.
Он повёл нас вниз по ступеням, ведущим к Триумфальной арке, а потом свернул направо.
– Вот у этой колоннады отличные снимки получаются. Отец мой открывал театр в тысяча девятьсот пятьдесят втором году. А потом показал главе республики на замусоренный холм и спросил его: «Когда мы ликвидируем этот позор бурятского народа?». Позор простоял ещё пятьдесят лет. Я не выдержал, пошёл в Дом правительства ругаться с президентом. И на следующий день позор прикрыли этим забором.
Высокий забор был нигде не побит и не исписан и шёл сплошной линией, так, что не возникало вопросов, что за ним. Батор надел на меня свою белую кепку, и Гриша снял нас на фоне мощной классической колоннады театра. Мы вернулись наверх к бронзовым танцовщикам, и Батор сказал Грише, указывая на меня:
– А вот мы скоро поедем с ней в Агу памятник Петру Бадмаеву открывать. Ты знаешь, кто был Пётр Бадмаев? Лекарь. Он с Григорием Распутиным бал вась-вась, как я с Распутиным Валентином. Бадмаев был дядя моей бабушки. А Гомбожаб Цыбиков, первооткрыватель Тибета для европейцев, был родной брат моей бабушки.
– Ваш отец не случайно стал министром культуры. Генетика, – подсказала я. – Расскажите Грише о своём отце.
Гриша включил диктафон.
– Отец мой мальчиком подвиг совершил.
Батор посмотрел вниз, не то на кончики своих туфель, не то на землю, в которую ушёл его отец. И это побуждало его быть атеистом. Верить в то, что жизнь только здесь. Какие могут быть перерождения? Надо в этой жизни выложиться по полной. Батор не понимал, зачем мы хотим попасть в дацан на Лысой горе. Буряты не погребают в земле, которую нельзя ковырять. Они и не садят в землю ничего, их огороды пустуют. А мы были из тех, кто погребает в земле, и тем близки Батору, счастливому тогда, после войны и не в этой стране.
– Отец мой пионером был. А бабушка его, моя прабабушка, была знатная и богатая бурятка. Народ батрачил на неё. И вот, коммунисты собрались её судить. В клубе бабушку посадили на сцене на стул, а люди должны были про неё плохое говорить. А они не смогли. Говорили: «Она нас кормит, одевает, кров даёт». Тут отец вскочил на сцену в красном галстуке, обнял бабушкины колени и сказал: «Что хотите со мной делайте, а я никому не отдам моей бабушки». И её отпустили.
Батор, волнуясь посмотрел вдаль, а потом на фонтан, вздымающий свои струи здесь, на площади перед театром не один десяток лет. Батор раньше ощущал себя словно растворённым в воздухе, состоящим из одного с ним вещества. И ощутил сейчас вдруг растворённым снова, потому что холодный ветер нёс запах степи, был плотен и говорил ему о вновь приходящем ушедшем. Большинство предприятий теперь не работало и не отравляло воздуха, был всемирный экономический коллапс, и души отдыхали в тишине и свежести.
– Отец мой учительствовал, а потом война началась. Я только родился. Отец брал Кенигсберг и Берлин, а потом потерялся. Мать плакала, что вестей нет. Раз я играл с ребятами на реке, а вернулся в наш двор, и мне соседи говорят: «К вам военный пришёл». Я домой: что такое? А потом понял: отец. Он смершевец был и лесных братьев бил в Прибалтике и на Украине. Ему нельзя было о себе писать. Потом он в Москве учился, и я учился в московской школе. Отец со всеми умел дружить. Я помню, как мы с ним были в ресторане ЦДЛ с дядей Костей Симоновым и дядей Серёжей Михалковым. А я хулиган всегда был и сказал маленькому Никитке Михалкову: «Хочешь, я тебе Кремль покажу?». Тот заинтересовался, как это – Кремль, его же здесь из окон не видно. Я зажал его головёнку и за уши поднял. Вот он верещал!
– Раньше детям всегда показывали Кремль, – откликнулась я. – Мне папа тоже говорил: «Хочешь, тебе Кремль покажу?». И поднимал меня высоко. Не за уши конечно, а просто высоко. И спрашивал: «Видишь?». Я смотрела за Байкал, на запад и говорила: «Вижу». Раз папа показывал, я должна была видеть.
– Прожил отец только мало, – продолжил Батор. – Ещё два года после открытия театра. Боевое ранение сказалось. Хоть и в кремлёвской клинике лечился. На похороны приезжал из Китая Сяо Сань. Они с отцом тоже дружили. Сяо Сань, китайский классик. Он создал в Китае компартию, а потом передал её Мао. А я без отца вырос настоящим хулиганом. С другом Жигмитом полетели в Москву сразу после школы. Я завалился к дяде Гоше Маркову, минуя его секретарей. Что делать – налим и есть налим. Дядю Гошу я с детских лет знал, когда они втроём с моим отцом в одной комнате, был ещё дядя Костя Седых, писали свои первые романы… А дядя Гоша позвонил в Казахстан Мухтару Ауэзову, и тот договорился, что меня с другом в университет там примут. Это дядя Гоша нас с глаз отправил подальше, чтобы мы среди других узкоглазых потерялись. Не тут-то было. Мы так запили, что не потерялись. Хвастун какой я? Налим, да ещё и хвастун! Как вы меня терпите?!
Батор помолчал и спросил:
– Вы в дацан на Лысой горе хотели? Да я там не был ни разу. Ламам я не верю. Я с нашим хамбо ламой на матюгах. Жена моя в дацаны обожает ездить. Я её спросил, как добраться, примерно. Поехали.
Мы пошли обратно к машине, оставленной у Дома правительства. Гриша взял ещё по мороженому. Батор, предупреждая его новый вопрос о мороженом, натянул на лицо маску по самые глаза, потом опустил.
– Жена-то у вас одна? – спросил его Гриша.
– Чего там, – махнул рукой Батор. – С одной тридцать лет прожил. И с другой тридцать доживаю. На первой я по дурости женился. Грех так говорить, но мать у неё была распутная бабушка. И жена в неё пошла.
– Дети-то у вас есть?
– От первого брака дочь и от второго брака дочь. От первого брака дочь сначала бумажонку получила, что она кандидат наук, потом, что доктор. Теперь в университете болтает, что ни попадя. А вторая сначала в Австралии колледж окончила. Потом в Москве финансовую академию с отличием. Её со знанием английского языка в Англию работать пригласили. Да тут Обама как заявит: «Поставим Россию на колени», и я дочери сказал: «Всё, возвращайся домой, никакой Англии». Теперь сколько уже лет сидит дома. Работы нет.
В машине я усадила Батора на своё переднее сиденье:
– Дорогу Грише будете показывать.
Мерседес очень подходил Батору. Он скомандовал: «Вперед, налево и снова вперёд», и мы поехали с холма на холм в густой застройке зданий, а он приговаривал:
– И кто я такой, и чем заслужил, что в такую компанию попал?!
Дорога – это всегда пауза между точками пребывания. Мы совсем было уже обжили ту скамью, на которой ёрзали возле театра оперы и балета и памятника танцовщикам, а теперь припарковались в другом совершенно волшебном месте, каким оказалась Лысая гора и тибетский монастырь на ней. Где же ещё могли поставить его тибетцы, как не на горе, тогда как буряты ставят свои дацаны в необъятной степи.
– Какая красота! Какие виды, – поразился Батор и строениям, и планировке, и открывающимся с горы панорамам.
Людей на территории дацана оказалось чрезвычайно много. Это были и паломники, и просто горожане, выбравшиеся сюда погулять: молодёжь, школьники и студенты, разлучённые карантином и вследствие этого с восторгом ощутившие ценность непосредственного общения, а также семьи с детьми, без разбору русские и бурятские. Гриша куда-то исчез со своим зеркальным фотоаппаратом, а я повлекла умствующего и сопротивляющегося Батора вверх по лестнице, в семицветный дуган. Было заметно, что ему всё чрезвычайно нравится, но он восклицал: «И это всё воздвигнуто на пожертвования верующих! Умеют же ламы обобрать народ!». Мы открыли дверь в дуган, и Батор снова не знал, что делать, но, как телёнок на привязи, пошёл за мной обходить посолонь священные предметы, изваяния будд и ароматические курения. Мне не было видно, сложил ли Батор руки молитвенно, как полагается – так, как наша тётя складывала их лодочкой у груди, умоляя нас ни с кем в нашем селе не разговаривать.
Монотонно звучали мантры, их измельчённые звуки словно предназначались не сознанию, а каждой клетке тела, получающей, таким образом, навязанное просветление. С ламами, однако же, встретиться было нельзя, как указывала карантинная надпись. Батор что-то проворчал по поводу увиденных им гигантских деревянных чёток, и, мимо охранника в маске, призванного запрещать вход без масок, но отчего-то стоявшего не на входе, а на выходе, мы вышли во двор.
Батор пошёл за мной следом вращать молитвенные барабаны, которые я в предыдущий раз крутила два года назад в Иволге. Дул сильный ветер, тем более сильный на вершине горы. За площадкой с барабанами была другая, уровнем ниже, с дугами и копьями в связках разноцветных хадаков – шёлковых шарфиков, подношений духам. Духи, судя по всему, были очень всем довольны и создавали настроение праздника. Они вразнобой играли бесчисленными концами хадаков, трепещущих от их прикосновений. Ветер дул такой сильный, что долго невозможно было оставаться здесь. Мы вернулись с Батором к машине Гриши. Вскоре и он подошёл, довольный всем увиденным, и Батор стал приглашать его когда-нибудь съездить в священное место Алханай на его родине. Видимо, там и ламы были другие, да и само место более достойное посещения, чем сомнительно для русскоязычия звучащая Лысая гора.
Мы довезли Батора до его девятиэтажного дома, оказавшегося на пути следования. Пока мы разговаривали, остановившись у подъезда, Батору помахал рукой какой-то серо смотрящийся человечек, вышедший из дверей, а потом он проехал мимо нас на огромнейшем белом внедорожнике, марку которого мы не успели посмотреть. Батор пояснил, что человечек – бывший ректор сельхозакадемии, уволившийся из неё несколько месяцев назад, и нам оставалось только подумать, как этот бывший ректор не стесняется ездить на вызывающего вида машине явно не по его одёжке. Гриша сказал, что мы приедем ещё в июле, и что у него будут вопросы. Гриша исследовал, насколько границы памяти согласуются с границами речи. Батор показался ему тем более интересен, что он был двуязычный, рассказов у него была прорва, и можно было попросить его объяснить, чем его воспоминания на русском языке отличаются от воспоминаний на родном.
Когда мы отъехали уже, оставив его у подъезда, Гриша спросил меня, а кто он, вообще-то, – Батор?
– Издатель, – ответила я, – очень известный издатель. Его вопиющая скромность помогает ему заводить друзей повсюду.
Мы отправились в обратный путь. Убедиться, что мы едем правильно, нам помогла вновь встреченная статуя Матери Бурятии. Перед нами открылся неохватный простор малой родины. Хребты и горы сменялись широкими травяными долинами, на понижении которых блестела и извивалась сине-бурая лента Селенги, по островам и берегам заполненная живописным бисером дачных строений. Именно Селенга делала эти места непохожими на Предкавказье, да ещё сосны, захватившие и держащие корнями песчаные дюны, тогда как моря здесь в историческое время никогда не было.
В районе Старого Татаурово мы миновали знаменитый перевал Мандрик, проехать по былой колее через который когда-то было сродни подвигу. Это мы с Гришей знали от бабушкиного брата, он когда-то ходил через старый Мадрик на своём дорожном кране, и вытаскивал его стрелой технику после аварий. Он говорил о Мандрике со значением, тогда как прежде четыре года возил на полуторке артиллерийские снаряды на линию огня войны, но об этом помалкивал.
Гриша же вёл машину со всей бездумностью движения, облегченного автоматикой, и так мы добрались до моста над Селенгой, перекинутого высоко над местностью. Мы повспоминали, как здесь когда-то ходил сумрачный паром, и мы ходили на нём на другой берег и обратно. Вспомнилась хмурость и опустошённость юности, угрюмые прибайкальские сёла без единого человека на их улицах. Люду можно было тогда, да и сейчас так, лишь возиться на огородах и смотреть телевизор, а на единственной автозаправке работал музыкант-скрипач. Его приглашали играть на свадьбах, за отсутствием более народных гармонистов, а откуда брались свадьбы, даже было трудно сказать. Поскольку создавалось впечатление, будто люди в очевидном дневном безлюдье передвигались по улицам сырыми и холодными ночами.
Мы сначала ехали вверх между лесистыми взгорьями, а потом спустились в низину. Гриша повёл машину по перпендикуляру относительно берега Байкала, и так мы оказались на улицах большого села, а миновав его, поняли, что это была Байкало-Кудара, и на самом деле нам надо было пройти по объездной. Мне эти места помнились по детскому веселью и оживлению рыбацких работ, и обилию шумных чаек, наносимых ветром на берег подобно морской пене. Теперь же чаек совсем не было в отсутствие рыбаков.
– Сколько цветов нынче, – сказал Гриша. – Давно я не видел такого обилия. Он остановил машину на обочине, вышел, лёг в степи и стал фотографировать жёлтые маки и белые ветреницы.
Вышла и я. Параллельное дороге, виднелось узкой полосой село Шерашово, я сняла его, потом полосу степной дороги с тонкими, теряющимися в мареве пространства столбами и проводами линий электропередач. Здесь можно быть духом, воздухом, ничего не желать, кроме созерцания, и не обнаруживать себя. Гриша, пригревшись под солнцем, выглянувшим из-за туч, лежал и записывал на видео пение пчелы над цветком, потом ещё одной пчелы, и мы снова поехали, теперь уже мимо сверкающих синих рукавов и разливов дельты Селенги. Завидев село Инкино, Гриша решил углубиться в его живописные улицы с палисадниками, заросшими черёмухами и сиренями. В городе их кусты отцвели недели три назад, настолько здесь в сёлах позднее приходит тепло. Впереди и справа мы увидели убогую избушку с табличкой учреждения и большим телефонным аппаратом, вмонтированным около высокого крыльца. Вход в избушку, в сени, корявые и выщербленные, был чисто побелен известкой, как и палисадник, укрывающий клумбу с цветущими на ней трогательными жарками. Мы с Гришей решили, что избушка – это почта, и приблизились сфотографировать её, столь одиноко застывшую на высоком берегу перед понижением рельефа к Байкалу. «Фельдшерско-акушерский пункт», – прочли мы на табличке.
– Нет ничего оригинальнее, чем родиться в таком роддоме, – произнёс Гриша, нажимая на спуск своей высокоценной зеркалки. – Какая же должна быть особенная судьба у здешних младенцев!
Под окнами фельдшерско-акушерского пункта, смотрящими на запад и Байкал, была низина, заполненная водой, а на её берегу лежало множество брошенных рассохшихся рыбацких лодок. Дождутся ли они перемен? Того, что нужно людям не в Москве и Париже, а здесь, на этом берегу? Мы с Гришей повздыхали, и, ещё раз обозрев бескрайнюю сочную зелень в синих линзах воды, помчались дальше на север.
Сквозь расступающуюся перед дорогой тайгу мы въехали в дачно-пляжное село Энхалук, непривычно пустое, вымершее. На границе деревьев и домов стоял продуктовый павильон с распахнутой дверью и продавщицей в белом халате и маске. Увидев нас, она встрепенулась, но нам ничего не было у неё нужно. Песчаный берег знаменитого в этих местах пляжа был абсолютно пуст, не было и на воде ни одного из бойких белых катеров, предназначенных для водных прогулок.
– Как хорошо, – сказала я, – никого! Ни одного отдыхающего.
– Ни одного с дурацкой громкой музыкой и пивом, – добавил Гриша.
Мы медленно проехали вдоль берега и сквозь сосны, окаймляющие дорогу, присмотрели место с поставленными буквой «п» тремя тяжёлыми деревянными скамьями, выкрашенными бардовым суриком, и кострищем перед ними с обугленными дровами и брусом. Мы оставили машину за соснами и принесли к скамьям свои берёзовые дрова, взятые утром у тёти, сумки с вещами и продуктами, сырой картошкой и копчёным окороком, и развели костёр, собрав в него вместе наши дрова, и то, что не догорело в нём прежде, и серые сухие лиственничные веточки с остатками шишек, нанесённые из тайги ветром. Костёр затрещал, разгораясь и дымя по ветру; напоминая о старых годах и некоем очаге уюта среди бездны движущихся воздушных масс. Нам от него всего-то нужны были угли, чтобы запечь картошку, в которой и не было особой нужды, так что, в целом это был костёр ради костра.
Мы поснимали верхнюю одежду и бросились в холодную воду. В такую воду надо всегда бросаться, не раздумывая, и тогда вся усталость испарится мгновенно, как не бывало. После этого остаётся только рухнуть на песок. Как оказалось, он был прогрет на половину длины ладони, а ниже оказался сырым и холодным. Лёжа на спине, каждый в своём отдалении, мы наблюдали, как в небе верещат возбуждённые зуйки и бросаются на коршуна. Они прогнали его, но он вернулся снова, нисколько не считаясь с ними.
Нехотя мы возвращались к тёте. Раньше я всегда думала, что располагаю возможностью бывать в родных местах, но к недовольству тёти ехать всегда не хотелось. Теперь это оказывалось ещё и неисполнимым. По этой ли причине, или случайно, мы проскочили мимо железнодорожного переезда. Грише пришлось сдать обратно, и мы въехали в посёлок с его разноцветными каменными домами в два этажа.
– Как это мне теперь напоминает какой-нибудь тихий городок Европы, – произнёс Гриша, всё замедляя ход. – Но, однако же Батор поступил правильно, запретив дочери отправляться на работу в Лондон. Из всех европейских стран больше всего мне не понравилась Англия. Мы там были в круизе прошлым летом, и обошли все порты и города. Лондон безнадёжно скучный город! Часам к восьми вечера жизнь в нем полностью затихает, а сами англичане совершенно одинаковые – у них характерные круглые глаза, деловые костюмчики и портфельчики. Я жил в гостинице рядом с Гайд-парком – это такое убогое место, Гайд-парк! И Тауэр – тоже убогое. Везде надо побывать, чтобы убедиться в одном том, что нам врут. Незначительное выдают за значительное. А в Эдинбурге вообще произошёл случай, когда мы, русские, неожиданно сплотились. Мы с самого начала распознали друг друга, в том числе украинцев и израильских девушек, но не собирались общаться. Наш круиз загнали на стадион, и оркестры давай играть национальные марши. Я стал ждать «Прощание славянки», но не услышал. Я захотел встать и уйти, и тут раздалось громкое: «Уходим, ребята!». И все поднялись – русские, украинцы и евреи. Нас оказалось много, и мы направились к выходу. И тут разошёлся холодный дождь. А нас не выпускают. Мы стояли у входа и мокли, но ни один не вернулся обратно. А потом мы все вместе пошли в автобус. Одного отставшего парня задержала полиция, что он неправильно перешёл дорогу. Мы это в автобусе увидели, и из него выскочили толпой, и с такими матами и рёвом отбили нашего, что полиция испугалась. Когда автобус уже тронулся, кто-то на телефоне включил «Прощание славянки», и тогда все включили «Прощание славянки», и так мы ехали по Эдинбургу.
Гриша свернул из посёлка на нашу сельскую старинную улицу, шины зашелестели по гравийке, поднялась пыль. Митрофан стоял у ворот и открыл их нам. А тётя встретила нас милостиво. Она истопила к нашему возвращению баню, зажарила второго леща. Мы утаили, что были в Улан-Удэ, поскольку это могло дойти до Гришиной мамы, пребывающей в пандемическом ужасе. Она и мне присылала паническую эсэмэску, что посещать даже и село в Бурятии крайне опасно для жизни.
Мы застали тётю рубящей курам на ужин крапиву в корыте. Она рассказала нам, что прошлым летом много насушила крапивы на зиму, и куры клевали её потом с большим удовольствием. Я надела большие резиновые перчатки и пошла впрок рвать крапиву за ограду на угол, где когда-то стояла ветхая избушка соседей. А потом рубила колючую зеленую массу в корыте топориком, а Гриша мылся в бане.
Отчего же тётя не хотела, чтобы мы общались с кем-то в нашем селе? Она считала, что мы опозоримся, такие недотёпы и бездари.
Я не смогла бы прокомментировать такое завершение рассказа при помощи слов-понятий, как поступила в его начале. Сделаю это посредством звуков: аоеуиы, аоеуиы, еы.
14-18 июня 20, Иркутск