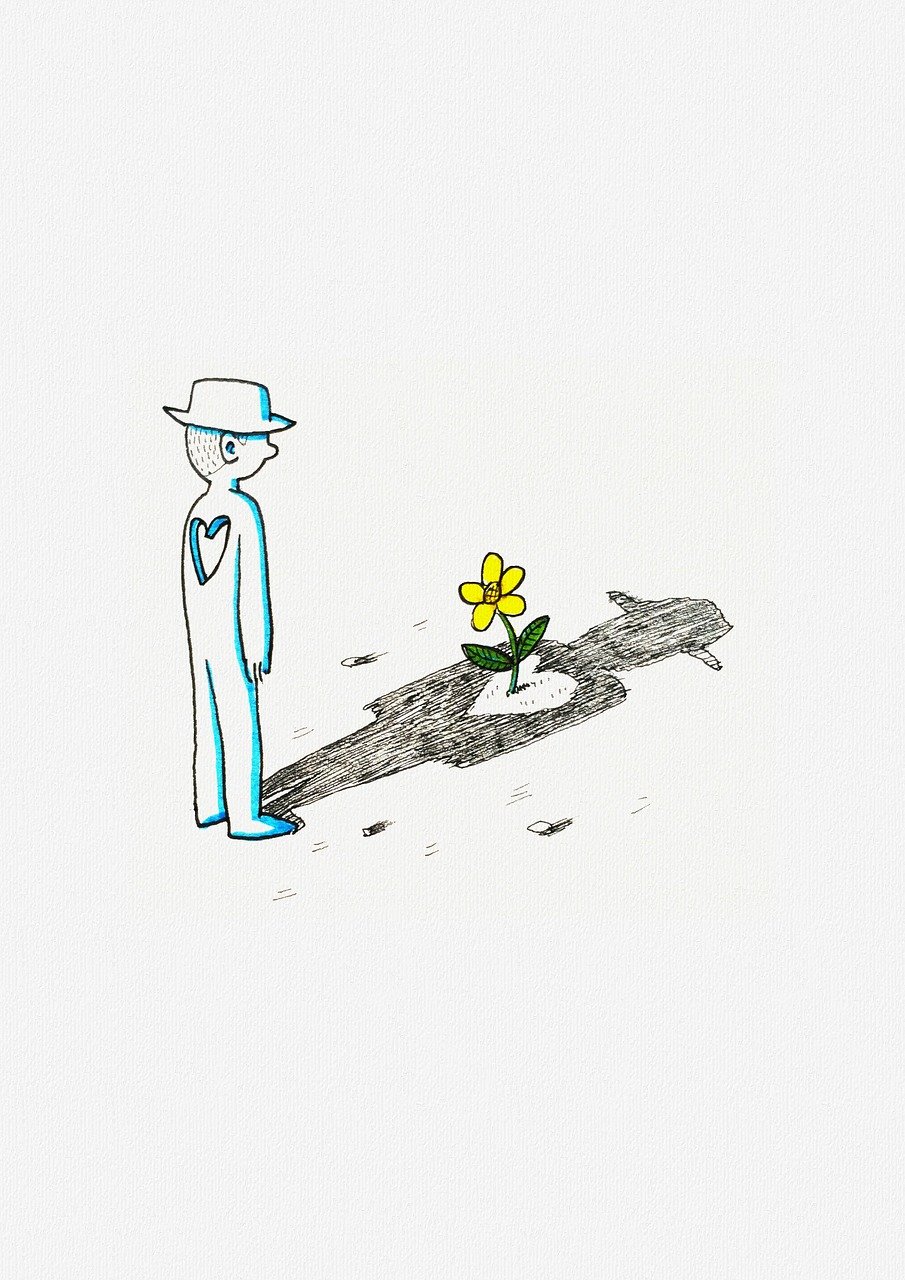Сосед Русланов — бывший бухгалтер лесхоза, а теперь жалобщик, постоянно писавший почему-то в «типографию» то об антисанитарном состоянии помойки, то о соседской пристройке к сараю, заслоняющей пейзаж, — грозился написать и о колонке. На словах его все поддерживали, но мало кто подписался.
И то сказать: когда Русланов пожаловался на антисанитарное состояние помойки (намерзший холм нечистот) — ее уничтожили бульдозером, и теперь всем приходилось таскать помои к соседнему дому. На этот раз Русланов подписался фамилией безвестного Устинова и адрес на конверте написал соседский, то есть его, Юрия. Товарищу Устинову вежливо ответили, что колонку отремонтируют во втором квартале. Так что еще предстояла оттепель: утоптанный желобок тропинки будет кругом истыкан глубокими, в полметра, следами нечаянно соступивших — этакими колодцами с темной спокойной водой на дне.
Обо всем этом он не написал, но на душе стало гораздо легче. Так бывало и в общежитии после ночных разговоров, душой которых он был не в буквальном, а почти в метафизическом смысле этого слова — он их одушевлял, хотя говорил не больше других, но суждения, остроты, диалоги — все направлялось к нему на оценку. В тех беседах он тоже не говорил о ненаписанных контрольных, несданном немецком тексте, но после них, уже под утро, все-таки не мог заснуть от радостного возбуждения, шел варить кофе в пустую общую кухню, где ночью самый слабый металлический звук был необыкновенно отчетлив, пил не спеша, смотрел, сидя на столе, в окно, и на душе было легко-легко. Он иногда жалел, что жена не видела его в то время: это избавило бы его от снисходительного сожаления, часто проскальзывавшего в ее приемах. Женщинам нужен внешний успех…
Вчера он тоже засиделся на кухне допоздна: писал о Тбилиси, а потом до трех часов не мог заснуть. Долго ворочался в постели, пока не разбудил жену, а потом сидел на кухне в майке и трусах, положив подбородок на ладони рук, упертых локтями в колени, слушая, как падают в ведро капли из «фонтана слез». Изредка он менял позу и внимательно разглядывал красные пятна повыше колен, где надавил локтями. Голова была такая тяжелая, что он и не пробовал чем-нибудь заняться. Просто сидел, смутно надеясь, что жена выйдет на кухню и спросит, почему он не спит, а он ответит: что-то не спится. Ему так хотелось этого, что, даже почувствовав, что уже сможет заснуть, он все-таки посидел еще некоторое время, но она так и не вышла.
После академического отпуска отношения с друзьями разладились. По его вине: он боялся изъявлений сочувствия, то есть пренебрежения с их стороны. А потом один из них, тот, кто был в него влюблен и даже подражал ему в одежде и манере говорить, сказал, что он москвич в Гарольдовом плаще. Это было обидно и несправедливо. Появились новые друзья, но уже попроще, и его тогдашняя манера вести беседу выглядела среди них несколько странной, нарочитой, и он ее вскоре оставил. Да и уместна она была только в тех, прежних разговорах, свободно и безостановочно порхающих с предмета на предмет по неуловимым боковым ассоциациям. Его замечания были тонкими, то есть проникали в столь узкие отверстия, куда новые собеседники следовать не могли, да не особенно и желали. Но они тоже были хорошие ребята, хотя потом один из них, ему передавали, назвал его дегустатором. Он удивился: «Ему известно слово «дегустатор»?»
Он тогда не испытывал ни малейшего желания продумать что-нибудь до конца, в любом вопросе его вполне устраивало найти неожиданную сторону, новую точку зрения — и все. Это же сказывалось в его манере говорить.
Он не стремился выражаться исчерпывающим образом. Вместо подробного портрета предпочитал дать одно движение брови, но ощутимо и оригинально, как у Сельвинского о тигре: ленивый, как знамя. И сжато — это дает ощущение емкости. Он, можно сказать, даже избегал не только пространных, но и просто конкретных утверждений: в них чудилось что-то тяжеловесное, плоское. Для него в те времена не было мыслей верных и неверных, а лишь интересно выраженные, содержащие интересную метафору. Его привлекали неожиданность реплик, богатство ассоциаций, острота переходов. Глядя в окно на желтые, серые и коричневые пересечения неправильных многоугольников безоконных петербургских брандмауэров, выглядывающих друг у друга из-за плеча, как на групповом фото, он говорил одно слово: «Пикассо» — и это по богатству ассоциаций было несравненно лучше и содержательнее, чем: «Похоже на картину Пикассо» или «Кубизм рожден геометричностью инженерных форм». А главное, это было бесспорно, потому что ничего и не утверждало. О рыночном торговце он мог сказать: «Пророк!» — и все прозревали в его растрепанности божественное вдохновение. Здесь многое зависело также от правильного выбора интонации — сжатой и стремительной. Но с новыми приятелями такие выражения были неуместны, выглядели рисовкой, и он стал еще чаще бродить по коридорам общежития, иногда присаживаясь на подоконники и читая «Ни дня без строчки» Юрия Олеши, тогда еще совсем новую книжку, потрескивавшую в переплете, когда ее раскрывали. Появившегося позже Пруста он уже не одолел. А Олешу боготворил.
Мать отказалась прописать его у себя, хотя жить предлагала сколько захочет. И переводы посылала регулярно. Видимо, надо было все-таки пожить у нее, дать ей снова к себе привыкнуть: ведь она, в сущности, была почти незнакома с ним — вдруг он пьяница и буян? Знала только, что его выгнали из двух институтов. После смерти отца она уехала на Дальний Восток и вышла там замуж, да так удачно, что теперь оказалась владелицей отдельной квартиры в Москве, а он с пятого класса жил у тетки и виделся с матерью даже не каждые каникулы. Впрочем, млекопитающие других видов утрачивают интерес к детям гораздо раньше. Видимо, нужно было принять это во внимание и, хотя бы месяц-другой пожить у нее, все-таки она когда-то одергивала ему матроску. Но он уехал обратно, и какое блаженное спокойствие охватило его, когда он соскочил с трамвая у Смоленского кладбища. Перед ним было его общежитие, его настоящий дом, в котором, покуда стоит университет, всегда найдется кровать и батон с чаем. Деньги мать и брат высылали по-прежнему, немного, но прожить было можно, он всегда был неприхотлив. Тем более что его постоянно приглашали в разные компании пить чай или водку, и в этом не было ничего унизительного. Вернее, почти ничего.
Потом за ним стал охотиться комендант. Вахтеры получили приказ не впускать его, и началась семимесячная подпольная жизнь, когда он, случалось, по нескольку недель не выходил на улицу. Кончилось тем, что он чуть не попал под суд за нарушение паспортного режима, однако все обошлось, и, после неудачной попытки поработать на заводе, поздней осенью он оказался в этом поселке, возле будущего дома.
Было пасмурно, только что выпал первый снег, и автобус пропечатал на белоснежном асфальте две влажные темные линии, баллистически огибавшие поворот, будто траектории улетевших в бесконечность комет или контуры фантастической антенны. Его нисколько не радовал предстоящий промежуток легальной жизни.
Вместо теперешнего автовокзала тогда стоял еще временный дощатый сарайчик, но вокруг уже расчистили строительную площадку, вырубив участок леса. Стена леса, лишенная обычной опушки, вид имела серединный, ельник был густой и тонкий, даже чахлый, зелень была только у макушек, а ниже торчали короткие сухие обломки сучьев, на которых лежал снег. Длинные темно-серые вертикали стволов были беспорядочно перечеркнуты жирными белыми штрихами. Неподалеку, перед его будущим домом, отдельно от леса, стояло несколько настоящих мачтовых сосен. Он потом боялся, как бы их не срубили, когда начали строить автовокзал, но их не тронули. Вокзал строили долго, и ему успело надоесть рычание бульдозера и грузовиков. На закатном небе — а заката здесь были целые горы — сосны выглядели очень красиво, и он, после занятии, часто и подолгу смотрел на них и, иронизируя неизвестно над кем, повторял вычитанную, кажется, у Леонида Андреева фразу: «Во время заката моя тюрьма прекрасна». Теперь, будучи здесь почти старожилом, он, даже размышляя, часто как бы адресовался к кому-то, искал чьего-то одобрения. Он и раньше, делая что-нибудь, иногда оглядывался на кого-то, незримо присутствующего, но оглядывался не искательно, а наоборот предоставляя возможность полюбоваться. В чем он прежде не сомневался — это в своей оригинальности. Зато теперь он часто испытывал неуверенность — иногда озлобленную, но все-таки неуверенность — даже в своей необычности, неповторимости, то есть нуждался в чьем-то восхищении или хотя бы одобрении, и, не желая походить на тех, кто, сказав что-то, бросает на собеседника молниеносный испытующий взгляд, чтобы узнать о произведенном впечатлении, не желая никому ничего доказывать, демонстрировать свои достоинства, демонстрировал их самому себе, убеждал самого себя, незримо присутствующего рядом. Видимо, он нуждался в восхищении и прежде, но не ощущал этого, как своей нужды в кислороде. А может быть, именно тогда эта привычка к чьему-то восхищению превратилась в потребность. Теперь он превращал в достоинства те свои качества, которые прежде для него были просто свойствами, хотя и хорошими. Так, для него стало несомненным достоинством то, что он любит музыку, книги и может сказать о них что-то интересное, не сказанное другими, но, специально культивируя в себе эту способность, часто говорил уже неинтересно и сам это замечал. Даже когда замечание получалось удачным, неуверенность все равно делала доказательство неубедительным, и он, случалось, пытался искать проявлений своей индивидуальности хотя бы в необычности самого предмета. Объектами наблюдений становились труднодоступные Иннокентий Анненский и Андрей Белый, а раньше он мог интересно высказаться обо всем, от Маяковского до Муслима Магомаева. Он мог когда-то и разрезание арбуза сделать творческим актом. Добывать Анненского и Белого в его нынешних обстоятельствах было чрезвычайно трудно и читать, пожалуй, тоже не легче, к тому же читая не для себя, а для одобрения кого-то незримо присутствующего, чувствуя в то же время некоторую пошлость такого занятия. Интересные впечатления никак не рождались. А его прежний метод как раз и состоял в изучении, с последующей огранкой, собственных впечатлений, а не действительности. Впечатление, тщательно выбранное и обработанное, всегда оказывалось достаточно интересным, часто интереснее вызвавшего его явления. Могущие при этом возникнуть ошибки были естественными издержками производства. В конце концов, и у Олеши или, скажем, Паустовского встречаются неточности — зато какие интересные!
Впрочем, здесь делиться впечатлениями все равно было не с кем. А в его глазах тонкий ценитель когда-то значил, пожалуй, не меньше творца, и, кто знает, возможно, присутствие ценителя сумело бы возбудить бы его восприимчивость и воображение…
Музыку он теперь почти не слушал, потому что послушать как следует удавалось не часто, проживая в одной комнате с ребенком и двумя женщинами, считающими высшей деликатностью говорить в это время вполголоса. Притом теща не может слышать ничего мажорного, чтобы не пританцовывать. А когда изредка он оставался один, раздраженные нервы в первое время не позволяли отвлечься от будничных дрязг — он перебирал их в памяти и замечал музыку только тогда, когда пластинка уже кончалась. Это бывало обидно до слез. К тому же по вечерам часто садилось напряжение, и начинал плыть звук. После семилетнего привыкания житейские мелочи уже не производили на него прежнего впечатления, зато и от музыки он отвык, он уже не испытывал желания ее слушать. Однако пластинки все еще покупал. И мог бы безошибочно указать, что хорошо и что плохо в каждой новой вещи, то есть что понравилось бы ему когда-то, а что нет, но прежнего чувства давно не испытывал. Сердце очерствело. Но иногда, как подарок, возвращалось прежнее.
С книгами, так сказать с художественной их стороной, было приблизительно так же. Он понимал: да, это хорошо — и все. До глубины как-то не доходило, вернее, доходило, но чаще всего смутно, глухо, как звук сквозь стену. Он утешался тем, что большинство, как хотя бы та же его жена, живут так, вероятно, от колыбели до могилы. Только воспоминания становились все живее и живее, чему, возможно, способствовали частые упражнения.
Иногда он начинал искать прибежища в проницательности, в которой, однако, было больше мелочности и желчи — благ один бог, и то лишь потому, что всемогущ и ему никто не может повредить, — и ему льстило, что он всех видит насквозь. А иногда казалось, что жизненные его неурядицы происходят из-за независимого нрава, неумения подольститься, тем более что жена была убеждена в этом, хотя, как правило, независимый нрав лишь довершал начатое. Однако теперь он культивировал его в себе, и так успешно, что он оказался в состоянии самостоятельно причинить ему несколько неприятностей, в свою очередь укрепивших его заблуждение. Последнее убежище — «вся его беда в независимом нраве» — было настолько уютно, что нежелание покидать его было, пожалуй, самым сильным препятствием, мешавшим поступить куда-нибудь на заочное отделение, писать глупые контрольные и сдавать глупые экзамены, чтобы доказать, что он не глупее самого глупого из дипломированных глупцов. Тем более, однажды покинув это убежище, вернуться в него было бы трудно. Многие из новых слабостей он в конце концов замечал в себе, но кое-чего так и не видел, не хотел видеть. Кое-чего, что было заметно брату, который хорошо его знал: когда-то они были очень дружны.
(Брат нашел бы в его письме упоминания о таких вещах, заметить которые прежде было не то что ниже его достоинства, но они и в самом деле совершенно его не заинтересовали бы, — например, насмешка над внушительностью банщиков, создаваемой отдельным столиком, была явно нацелена на Юркиного директора. Брату показалось бы неуместным уподобление детей открытой ране. Свое отцовство он ощущал не так и считал, что обостренное ощущение опасности, близости несчастья в повседневной жизни возникает не от лучшего понимания опасности, а просто от нервной усталости. Конечно, он не согласился бы с тем, что нам так уж мало пользы от ума и мускулов. И уж конечно, отметил бы типичную для неудачников наклонность к бесплодным, а главное, не слишком интересным философствованиям.
В последнее время, еще не желая формулировать это окончательно, брат стал склоняться к мысли, что Юрию просто не хватает ума, настоящего ума, способного правильно оценивать обстоятельства и принимать правильные решения. Ума, который дается не для того, чтобы быть наблюдательным, тонким и остроумным собеседником, а в первую очередь для того, чтобы обеспечить хорошую жизнь тебе самому и твоим близким.
Продолжение следует…