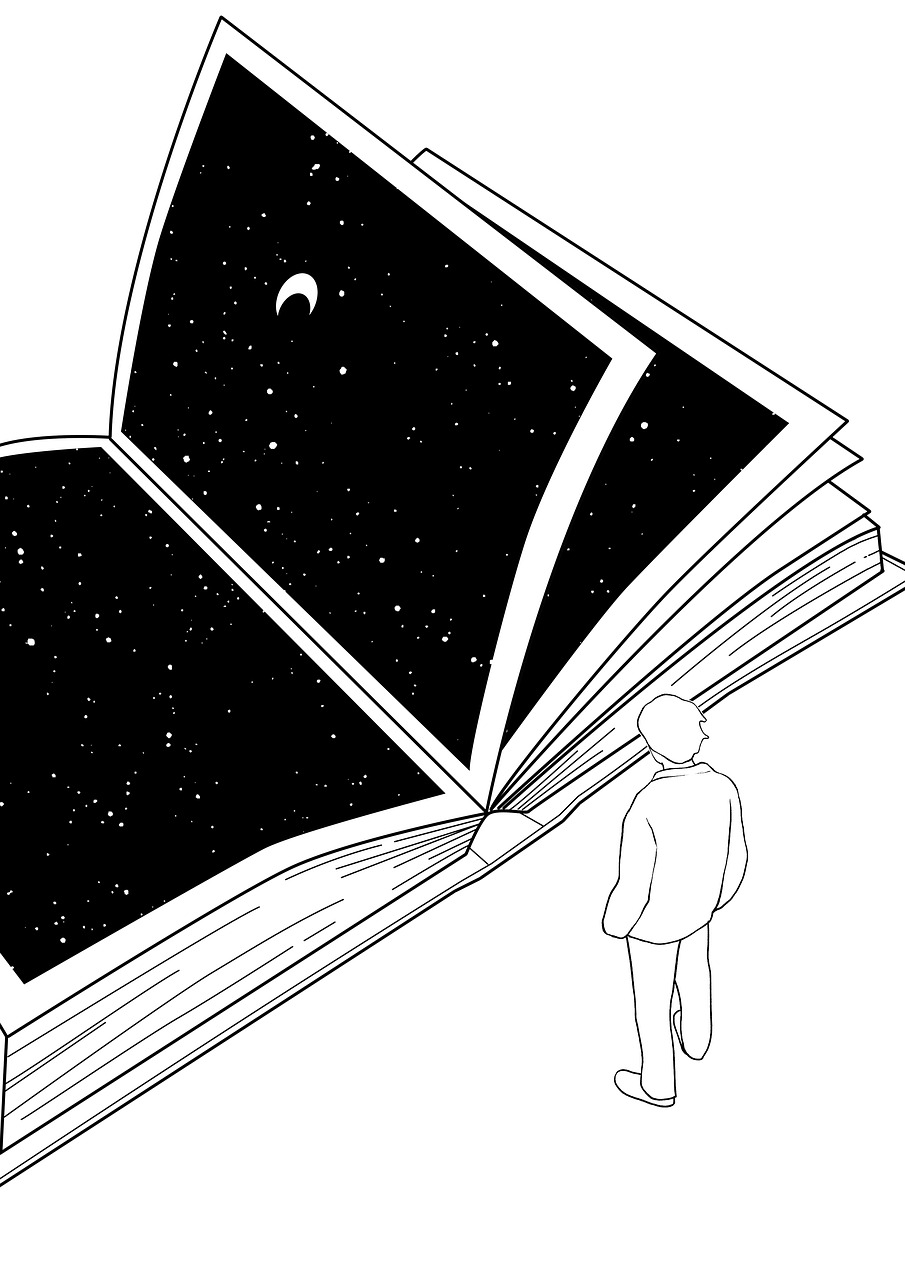Все лета с рождения до школы я проводила в Коктебеле. Когда же мы перестали ездить на лето в Крым, родители стали снимать «дачу» в Подмосковье. Отец не любил дачные посёлки за то, что в них нет простора, а есть заборы. Поэтому «дачу» снимали в деревне. Когда у родителей был отпуск, мы путешествовали по стране на машине, а остальные месяцы я проводила с нянькой в деревне. В Каблуково.
Каблуково родители нашли очень просто — это была ближайшая к дому деревня, где слобода с домами располагалась не вдоль шоссе, а перпендикулярно ему. То есть выбирали из соображений безопасности. Подальше от дороги. Но выбор оказался удачным, мы потом ездили в Каблуково семнадцать лет, последние годы уже без отца. В этой деревне было хорошо всё — от названия до обитателей. Был рядом лес, была речка Воря и впадающий в неё ручей Лашутка. Огород, ягоды и парное молоко тоже были.
Вдоль шоссе тоже стояло несколько домов, а ещё там был магазин, почта, библиотека, начальная школа, полуразрушенная церковь и кладбище. Почта, библиотека и школа делили между собой бывший дом причта, поэтому стояли в церковной ограде и одним боком выходили на деревенское кладбище. Школа, понятно, летом была закрыта, на почту мы почти не ходили — разве что позвонить в Москву, но не помню, чтоб это происходило часто. А в библиотеку я ходила чуть ли не каждую неделю, потому что книг, привезённых из дома, не хватало.
Церковь я воспринимала как архитектуру. С этой точки зрения я и теперь смотрю на культовые здания любых конфессий.
Я выросла в русско-еврейской семье, причём обе её части были не только не религиозны, но даже антиклерикальны. Это удивительно, потому что прапрадеды с обеих сторон были священниками, а с маминой, еврейской стороны, раввином был также и прадед. Но вот к моменту моего рождения религиозность выродилась и выветрилась напрочь. Впрочем, неприязни к религии во мне тоже не было, а было лёгкое любопытство. Когда девочка во дворе говорила: «Знаете, как надо креститься? Вот так: сиська-сиська-лоб-пиписька!», я воспринимала это как науку — на всякий случай.
Каблуковская церковь стояла заброшенная, с покосившимися крестами, прохудившимися куполами, обсыпавшейся штукатуркой. Кованые двери были не заперты, но из-за проржавевших петель открывались совсем немножко, только дети и могли войти. И мы входили. В церкви было сыро и сумрачно, пахло подвалом, прогнившие половицы были завалены кучами битого кирпича, на стенах, исписанных поколениями безбожников, угадывались лики святых в еле заметных нимбах. Особый интерес, конечно, вызывала лестница на колокольню, но ступени совсем прогнили, и шагнуть на них было страшно.
Напротив церкви, через дорогу, стоял совхозный коровник, в котором месили ногами грязь и навоз сотня молодых бычков и тёлок. На водопой их гоняли к Лашутке, ручью, за которым начиналась длинная слобода домов, перпендикулярная дороге. Через Лашутку было целых два моста — автомобильный и пешеходный. Автомобильный мост, сколько его ни ремонтировали, всегда был страшен — часть досок отсутствовала, часть была не закреплена и поднималась свободными концами, когда проезжала машина. Пешеходный же мостик был прекрасен. На нём можно было играть в палочки — любимую игру Винни-Пуха. Доски и перила этого мостика были гладкие и тёплые, и хотя он был гораздо выше автомобильного моста, ходить по нему было совсем не страшно.
В первом же доме за мостом нам сдали тёплую комнату и летнюю пристройку к ней в виде терраски, кухоньки и прихожей. И ещё кусок огорода под окнами, чтобы выращивать овощи.
Изба-пятистенка, снаружи казавшаяся небольшой, внутри была довольно просторна. Горница делилась пятой стеной примерно пополам. Летом дверь между двумя половинами избы забивалась фанерой — чтобы половину сдавать дачникам, нам. Зимой же между комнатами была только занавеска. Хозяйская половина казалась меньше, чем дачная, потому что печка там была огромная, с лежанкой. В эту печь можно было не только горшки задвигать ухватами, но и человеку залезать. Ольга Ивановна, наша хозяйка, рассказывала, что зимой мылись внутри печки. Это меня почему-то страшно пугало. Сразу представлялся Ивашка-под-простоквашкой, которого коварная Баба-Яга задвигает в печь на лопате: погрейся, мол.
К хозяйской половине тоже была пристроена маленькая терраска с чуланчиком, эта пристройка не отапливалась, летом в чулане жила жиличка Вера, а зимой на терраске стояли укутанные в тряпки кадушки с кислой капустой.
Хозяйская половина была довольно тёмная, потому что освещалась всего одним небольшим окошком, выходящим на картофельный огород, называемый «усадьбой». У нас же три окна выходили на улицу, то есть тоже на огород, но маленький, для овощей. И было четвёртое окно, выходившее на хозяйский двор. Под этим четвёртым окном во дворе стояла лавочка, на которой по вечерам деревенские ребята собирались попеть под гитару. Я часто присоединялась. Казавшиеся взрослыми парни меня не обижали, а уважали, потому что я знала слова большинства песен до конца, а не только первые два куплета.
Вернёмся на хозяйскую половину. У длинной стены стояли две железные кровати с сеткой и шишечками на спинках. На одной спала сама хозяйка, на второй — кто-нибудь из гостивших внуков. (У Ольги Ивановны была большая семья: четыре дочери, пять внуков, правнуки). Вдоль кроватей от двери к окну пол был застелен пёстро-полосатой домотканой дорожкой.
Напротив хозяйкиной кровати был красный угол — висела темноликая Богородица, мерцала лампадка. Там же стоял и стол, а на столе, точно под иконой торчал крохотный чёрно-белый телевизор с мутным изображением и глухим звуком. Стена напротив божьего угла была завешана фотографиями семьи. Изначально это были две большие рамки с отретушированными свадебными фотографиями новобрачных Оли и Вани. Ваню я никогда не видела, Ольга Ивановна вдовела уже много лет. Каждая новая, уже мелких современных форматов (9×12 и совсем крохотные, для документов) фотография вставлялась в те же рамки, снизу, сверху, с боков. Постепенно обе большие рамки превратились в многофигурные коллажи, которые можно было рассматривать часами. То, что стало модной фишкой в современных интерьерах, было полста лет назад интуитивно найдено неграмотной деревенской старухой.
У печки на табурете жила керосинка. Летом печь разжигали редко, поэтому готовила Ольга Ивановна на керосинке. Керосин привозили в деревню по четвергам. Цистерна останавливалась у магазина и долго гудела, созывая старушек с бидонами. Мы-то за керосином не ходили, потому что готовили на складной газовой плитке, баллоны привозили с собой из Москвы или обменивали в Щёлкове на станции.
Там же, у печки, был прикручен к стене рукомойник с настоящей жестяной раковиной, под которой, впрочем, стояло обыкновенное ведро, и его надо было выносить на двор, по звуку определяя, когда оно наполнится. На дачной половине и таких удобств не было, рукомойник был прибит к забору, под ним стояла дюралевая шайка с двумя ручками, а под шайкой жила красивая коричневая жаба.
Мыльную воду из умывальника выливали под яблоню, а для мусора копали глубокую яму напротив дома, на краю болотца, заросшего рогозом, который дети называют «камышом» и любят за толстый мохнато-шоколадный стержень цветка. Когда яма наполнялась, её закапывали и рыли рядом следующую. К одной яме ходили жители трёх–четырёх соседних домов.
В деревне было шестьдесят дворов и пять колодцев — один с воротом и цепью и четыре журавля. В ближайшем к дому колодце вода была самая вкусная — так местные говорили, и не только говорили, но и ходили к нашему колодцу с дальнего конца деревни.
Чтобы реже ходить за водой, многие сооружали специальную тележку из поставленной на колёса сорокалитровой молочной фляги. В такой тележке можно было привезти сразу четыре ведра, а то и все восемь, если фляги было две. У нас фляги на колёсиках не было, а были обычные эмалированные вёдра, три, кажется. Я любила ходить на колодец — мне, конечно, наливали по полведра. Поднимать воду с помощью журавля было интересно и поначалу трудно. Чтобы конструкция тебя слушалась, нужно было иметь определённый рост и некоторую силу в руках.
Рост был нужен, чтобы дотянуться до пустого ведра, болтавшегося выше метра над срубом колодца. А сила больше всего требовалась, чтоб опускать ведро, пересиливая тяжесть укреплённого на другом конце журавля груза. Обратно-то ведро ехало силой груза, то есть само, нужно было только направлять его, чтоб не оббить щепок и мха со сруба — всё это могло оказаться в твоём ведре.
Я научилась годам к десяти только — когда доросла. Ведро, привязанное к «носу» журавля было слегка сплющено, чтобы легче наливать из него в свои вёдра, в месте излома образовалась трещина. Когда вода лилась через треснутый край, струя красиво ломалась над трещиной, разделяясь на два потока. Невозможно было преодолеть искушения попить прямо из ведра. Все, все пили! Вода была ледяная и действительно очень вкусная.
Вода из колодца, уборная на улице, помойная яма в болоте и стирка в тазу — иногда мне кажется, что всё это мне привиделось, что я просто выдумываю всё это, постукивая по нарисованной клавиатуре своего телефона.
(Расскажите мне кто-нибудь сорок лет назад, что у меня будет телефон, который я буду носить в кармане, и буду писать на нём книгу и сообщения людям, живущим в дальних странах!
Кто-нибудь расскажите мне сорок лет назад, что я буду легко оперировать такими словами «всего десять–двадцать–тридцать и даже сорок лет назад»).
Продолжение следует