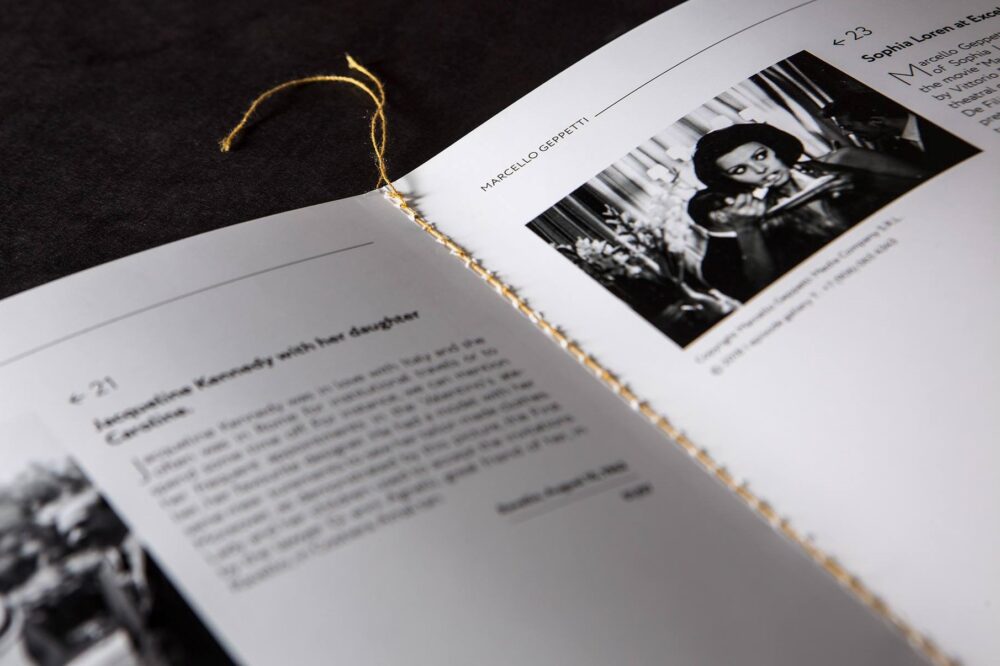Под ногами теплая, легкая вода, закрывающая ступни и под кожей ступней песок, светлый, чистый. Я иду по дну ручья, — вот, самые счастливые моменты моего лета. А может, и всей жизни.
Я на каникулах в деревне у тёти и дяди. Дядя Юра только для меня, двенадцатилетней — дядя, а на самом деле он молодой, он ещё парень, ему всего двадцать четыре года. Он женился на тёте «по залёту». Но перестроится на новую жизнь не смог и жил, как до женитьбы; вечером уходил в клуб, возвращался под утро. Ел на кухне в темноте прямо из кастрюли поварёшкой суп и ложился к тёте под мягкий бок. Моим братьям-близнецам было по пять лет.
Как-то я набрела на небольшой ручей за тётиным огородом и осталась там надолго. Ручей заворожил меня. Стоило мне погрузить в него ноги, как становилось спокойно и хорошо, и мысли текли так же плавно, чисто, тихо, но безостановочно, как этот ручей.
Я очень устаю от людей. Я прихожу на ручей, чтобы набраться сил и жить дальше среди них. Ещё день. Мне жаль только, что ручей через триста метров уходит в трубу, под дорогу и мне нужно идти обратно. С другой стороны — огороды соседей, и я боюсь столкнуться с ними, боюсь их изумления, и отвращения.
— Что ты тут делаешь?
И что я скажу? Что я прячусь от людей? Пытаюсь успокоиться?
Так не говорят. Нормальные люди так не говорят. Я стала придумывать нормальное объяснение. Дядя же кричал, что я хожу туда стирать свои грязные трусы и всего-то. Кажется, ему было страшно знать, что же я там, на самом деле, делаю, и история про трусы его успокаивала. Кто-то из них следил за мной, чтобы узнать тайну, что же я делаю на ручье, но потратив время, только ещё больше был озадачен.
— Ничего она там не делает!
Отмахнувшись рукой от вопросов, говорит этот кто-то. И все начинают подозревать, что делаю я там что-то такое ужасное, что и сказать нельзя, приходится врать, что «ничего».
Были версии, что я бегаю за ручей на гороховое поле есть горох. Но не часами же я его ем. Или я там с кем-то встречаюсь, с кем-то из мужчин, возможно, с братом дяди, моряком дальнего плавания, который проводил отпуск с женой и сыном в родной деревне. Версии были шокирующими, но людям они казались менее страшными, чем та, что я просто хожу по ручью туда-сюда, чувствуя, как вода гладит ноги и песок немного их щекочет.
Потом всё прекратилось. Я вдруг стала частью мира людей. Как-то тётя разрешила мне остаться в клубе после кино на танцы. Я сидела на кресле в зрительном зале. Парни с девушками танцевали медленные танцы, и мне хотелось туда, в этот мир. Где у людей есть ритуалы. Знаки одобрения и принятия. Я хотела быть принятой. В эту игру. Это всё из-за Сережки, высокого блондина с грустным лицом на три года меня старше. Он жил в красивом большом доме на повороте, там, где деревня будто преломляется на две, и в саду этого дома цвели розы. Красивым было всё вокруг Сережки. Волосы длинные падали на высокий лоб. Модная джинсовка ненарочито сползала с плеча. Сережка был не деревенский. И в его грусти я видела что-то родное. Деревенские не грустили никогда.
Сережка пригласил меня на медленный танец. Было это настолько неожиданно, что я даже оглянулась по сторонам; к кому это он обращается. Но он обращался ко мне.
— Потанцуем?
***
Дядя жил по расписанию подростка, выжимая из себя все соки. Старался вырвать свою буйную молодость из цепких лап тёти, что обрушилась на него так внезапно и так небезобидно, хотя и была хохотушкой, румяной и толстой.
Тётя только смеялась, когда слышала его вопли «про трусы».
— Ты срёшься что ли? – спрашивала она меня и хохотала.
Я снова уходила на ручей. Смотрела, как вода обтекает лодыжки. Медленно. Ручей никуда не спешит.
Тётя была ещё совсем юной, она только окончила техникум, когда встретила дядю. Помню её фломастеры в тумбочке, в нашей городской квартире. Мне нельзя было их трогать, и я боялась даже приоткрыть дверцу тумбочки. Открывала её на сантиметр, видела фломастеры и закрывала снова. Мне казалось тогда, что тётя очень счастливая, лёгкая, её волнистые волосы, розовые щёки, легкое платьице, всегда её смех, когда она забегала на минутку к нам, после занятий или в выходные, перекусить домашнего. Она была девочкой, а потом сразу мамой. Сейчас она работает в детском саду, куда ходят её близнецы. Я рассматриваю фотографии в её альбоме. Вот Новый год; тётя — Снегурочка, дядя — Дед Мороз, вокруг дети — «зайчики» и «снежинки». Их лица сияют таким неподдельным счастьем на фоне огромной новогодней ёлки. И я понимаю, что я чего-то не понимаю. То есть, ничего не понимаю. Я слышу с летней веранды, где живу, как дядя бьёт тётю, она кричит, выбегает из дома, прячется в бане, а потом они снова сидят в обнимку. А вечером дядя сидит в обнимку с Гелькой у клуба. А на новогоднем фото их улыбки излучают столько радости и света. Кажется, я одна не способна понять людей. Во мне что-то сломано.
***
Серёжка говорил мне на ухо, «как зовут? к кому приехала?». Танцевать он умел. Наверное, много танцевал, и говорил так спокойно, так уверенно, никакого волнения, наверное, много раз приглашал девушек на танец. Для меня этот танец оказался мукой. Такое напряжение, стыд, страх, что после танца я мигом выбежала из клуба. Стояла на крыльце, пытаясь понять, что мне делать дальше. Серёжка вышел и спокойно сказал:
— Давай, завтра встретимся, погуляем?
Слишком всё идеально.
Я согласилась. А, по-хорошему, нужно было сказать ему, что мне всего двенадцать лет. С виду мне можно было дать пятнадцать. Но я хотела на свидание.
Целый месяц мы с Серёжкой встречались вечером в восемь ноль-ноль на остановке напротив его дома. С ним всегда был Саня толстый. И втроем мы гуляли по деревне, выходили за деревню, шли на Поклонницу — большую сопку, собирали там землянику под соснами. Всё это время я думала, почему мы не можем гулять без Сани, всё это время я хотела остаться с Сережкой наедине. Не зная, зачем и что будет, если мы останемся наедине. Но я чувствовала, что обстоятельства необходимо изменить. Они часто шутили надо мной так, что я не понимала смысла. Порой они даже старались меня обидеть, я не понимала хода их мысли, но чувствовала их намерение — задеть меня.
— Ты с ними обоими что ли трахаешься? — спрашивал дядя.
— Ой, да на хрена она им нужна, малолетка! Сережка нормальный парень, у него в Питере, наверняка, девка есть, — говорила тётя. И снова хохотала.
— Так ты с кем из них мутишь? — спрашивал дядя.
Я не знала, что нужно ответить.
У меня были месячные, у тети не было для меня тряпок, и она велела мне сидеть на туалете. А дядя кричал, чтобы я убиралась из туалета, что ему противна одна мысль о том, что там у меня течёт. Он кинул в меня литровую стеклянную банку с водой, что стояла в туалете. Брызги полетели мне в лицо, банка упала у ног и покатилась с глухим стуком по деревянному полу.
— Я не хочу это видеть! Мне противно это видеть! Ты же этим свою пизду моешь! Стирай свои трусы на речке, где ты и сидишь всё время, сумасшедшая! И подмывай себе всё тоже там!
Он был сильно с похмелья. Красный, измученный, жалкий.
— Я даже потею спиртом, — говорил он, лёжа на диване возле телика и страдая, — от меня, чуешь, пахнет цитроном. Я два литра цитрона вчера выпил. Оххх.
Он умел так, переходить от брани к доверительной беседе. По-сути, он был ещё ребёнок, которого заставили повзрослеть, и это насилие вызывало у него много противодействия. Он не соглашался. С сыновьями он играть не хотел. Ему было скучно. А они любили его, и пока он умирал с похмелья на диване, они ползали по нему, как по горе и хохотали. Темные шторы всегда были плотно задёрнуты. И эти маленькие волчата в полумраке тихонько шептались и хихикали, вокруг своего папки, он только изредка вскрикивал на них, когда их бубнёж мешал ему слушать телевизор.
Тётя сидела в своей светлой маленькой комнатке и запрокидывала голову вверх, пока слезы текли по щекам и на шею и на её огромную грудь. Она смотрела голубыми глазами в окно, но не видела ничего. Так тихо она сидела полчаса. Потом выходила и кричала:
— Так, а ну пошли во двор играть! Отстаньте от батьки!
***
Я перестала понимать, зачем хожу на встречи с Сережей и Саней. Сережа очень красивый, умный мальчик из Питера, для меня это очень лестно, что он гуляет со мной, но назначение этих бесконечных прогулок мне было непонятно. Я не знала, как нужно жить, и я думала, что другим лучше знать, Сереже и Сане лучше знать. Значит, так нужно. Я шла каждый раз с ожиданием чего-то интересного, но вот прошло уже полтора месяца, а всё каждый день повторялось снова и снова. А что дальше? Когда наступит счастье? Когда будет любовь? Когда я почувствую её? Была радость и удивление, когда он пригласил меня танцевать, когда позвал гулять. Было страшно идти в первый раз на остановку. А потом… ничего. Я не могла понять и чувствовала тоску и злость на себя. Что же со мной не так?
Серёжа любил рассказывать о своей заветной мечте. Он ждал, когда, наконец, вырастет и пойдёт работать дальнобойщиком в Совтрансавто. Я не очень понимала, что такое дальнобойщик. Нежный, бледный Серёжа с тонкими длинными пальцами и грустными серыми глазами менялся, когда говорил о том, как станет дальнобойщиком, у него в глазах загорался огонь. Он размахивал своими длинными руками. Мне было мучительно, что я никак не могу быть причастной, я ничего не чувствую, не понимаю, что же так привлекает Сережу в том, чтобы быть дальнобойщиком.
И шутки Сани толстого были всё обиднее, я понимала, что в них есть какая-то истина. Что тут есть, над чем шутить, но над чем именно, я не понимала. Не приходить я не могла. Мне казалось, я не должна отказываться от такой завидной доли, гулять с таким прекрасным парнем. Он и на самом деле был прекрасный! Лучше его в деревне не было никого. А может быть и во всём мире. Он каждый вечер пел песню, которую я никогда не слышала «Донт гоу бикоз ай лов ю». Я не знала английского. А Сережа знал и говорил мне «знаешь, о чём здесь поётся?», «нет» конфузилась я.
— Не уходи, потому что я люблю тебя.
Я кивала, рдея. Это была игра. Такой очень прозрачный намек. Настолько прозрачный, что точно ничего не значит. А что дальше? Что нужно делать дальше? Снова идти по деревне мимо домов, за деревню, на сопку, под сосны, собирать землянику, потом обратно.
Однажды день был особенно скверный. Саня шутил особенно жёстко. Намекал на мою тупость. Я это понимала и может даже была согласна. Житейски я была, действительно, тупа. Я не понимала людей. И не знала, как сделать так, чтобы они меня поняли. Я всегда скучала. Ничего не говорила. Уставала. Во время этих прогулок я была будто заперта внутри себя. И меня тянуло назад, к ручью. К ручью для прокаженных, нелюбимых, непонятных.
Почему всё так, если Сережка такой красивый и милый. Почему я хочу вернуться на ручей. Но стыжусь этого и стараюсь туда не ходить.
Саня шёл и размахивал палкой, как-то нарочно, вот-вот заденет меня. Ему это нравилось, и смотрел он на меня с вызовом. Я вдруг резко повернулась и пошла прочь. Дождь забарабанил по моей макушке. Серёжка догнал меня, преградил мне путь, взял меня за плечи своими длинными красивыми пальцами. Я подумала «Господи, сейчас он опять начнёт говорить «донт гоу бикоз айлов ю». Я подумала, что просто не выдержу этого. Он стоял передо мной весь мокрый и отчаянный.
— Я тебя люблю, дурочка!
Сказал он. И я опустила голову, спрятав лицо. В сознании промелькнула мысль «есть!» и я постаралась выдавила из себя слёзы. У меня была уверенность, что в такой ситуации нужно заплакать, ведь это так трогательно, так великолепно. Первое признание. Плакать не хотелось, хотелось захохотать, но я старалась плакать. К счастью, ливень всё решил, но всё-таки мне хотелось, чтобы моя реакция соответствовала моменту, и было обидно, что совсем не плачется.
Мы пошли вдвоём, наконец-то, впервые в темноте под дождём. Всё было, как в тумане. Казалось, дождь смывает нас на асфальт. Мы дошли до моей калитки. Он вцепился в мою руку, как краб.
— Можно, я тебя поцелую, — сказал он, весь содрогаясь.
Я легко кивнула и ожидала поцелуя, пока он склонялся ко мне, а он едва коснулся губами моей правой щеки. Как глупо и странно всё это было. Как напыщенно. Я почувствовала, что играю в каком-то чужом кино.
На следующий день я увязалась с дядей в клуб. Больше не ходила на остановку.
Сережа мне очень надоел. Я от него устала и так сильно, что тут не помог бы ручей. Нужен был целый океан, чтобы окунуться в него с головой и, перестав шевелить ногами и руками, погружаться в воду, пока всё не прекратиться навсегда.
Иллюстрация (фрагмент) I Know How You Must Feel, Brad,Roy Lichtenstein