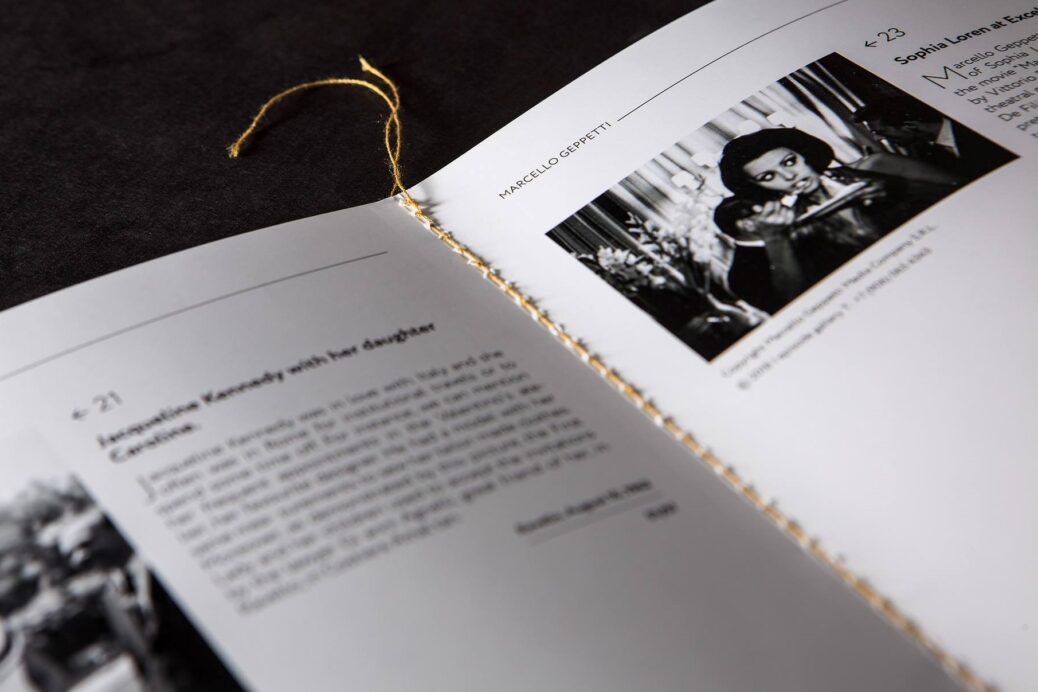Когда целеустремленная, не лишенная воображения, рано овдовевшая мама позднего сына Жавы Адария хотела подчеркнуть «особость» своего не по возрасту биологически зрелого сына, она, не утруждая себя логикой объяснений, уверенно и многозначительно утверждала: «Он видит все!»
Скорее всего, она имела в виду, что сын ее мощно, не по-детски, якобы гениально для своих прыщавых лет, прозревает суть вещей и событий.
Окружение Адарии, незнакомое, дальнее и отчасти ближнее, вежливо и недоверчиво всматриваясь в мясистое, «с щечками четыре раза», вечно жующее лицо Жавы, не совсем ее понимало. Но поскольку желание Адарии говорить не умолкая о сыне было безраздельным, всепобеждающим, то вскоре весь Гуджарати сдался и признал за Жавой его важнейшее отличие от других сверстников — «видеть все».
Выросшая в атеистической среде Адария, по абсолютному незнанию не боялась вызвать этой аффирмацией зависть Богов к Жаве. Собственно, Жава и был ее Бог. И ниспосланный смысл, обременительно искать который не было никакой необходимости последние девять месяцев и тринадцать лет из прожитых ею сорока пяти.
Ради сытого, невинного, как ей казалось, бормотания Жавы во сне Адария готова была идти на край света. Но обязательно вернуться, чтобы снова видеть его.
Вот как сейчас, когда он рядом с ней.
Сидит.
Ест разрезанные вдоль глянцевые половинки упругих зеленых огурцов, щедро намазанных слоем томного деревенского, «от родственников с прошлого года», меда.
Dolce vita, как она есть! Натуральная, липкая, разнузданная! На губах, пальцах и даже кончике тяжелого носа.
Злопыхатели враждебно утверждали, что если в Жаве и есть что-то «особое», то связано оно только с этим гастрономическим и нерядовым для патриархального меню Гуджарати «кушаньем».
Не слыша их Адария «иррационально» верила, что об ее Жаве скоро, очень скоро, узнает «весь СССР и мир». Без серьезных на то основании, она нахально и отчаянно пророчила ему карьеру дипломата или представителя советского торгпредства обязательно в какой-нибудь капиталистической стране.
Например, в США.
— Или в Италии, Адария?
— Да, лучше в Италии! Ближе к Гуджарати!
—
В пропахшей едой квартире Жавы, не обремененной книжными полками, в выдвижном ящике лакированного зеркального трюмо, радостно откликавшегося на любой — электрический или дневной — свет, лежала хоть и неожиданная здесь, но хватко залистанная мамой книга известного, наверное, прогрессивного, а потому допущенного до советского человека фотографа Марчелло Джеппети-старшего: альбом «Достопримечательности Рима».
Уставившись в старую деревянную коросту соседской двери напротив, Адария часто и смело представляла стремительного (ва!) сына с родной улыбкой «зубами в объектив» на ступенях Испанской лестницы!
В одиночестве!
Или задумчивого (ва-ва!!) с ее любимым взглядом «глазами в объектив» под Аркой Константина.
В одиночестве!
Даже в капитально обустроенном будущем сына она как-то не «очень видела» в его жизни присутствие какой-нибудь другой женщины: подруги, жены, «дачтовысебепозволяете!» — любовницы.
В мечтах Адарии Жава носил черные, иногда серые, костюмы и, конечно, белые — «таззя!» — новые сорочки. Джеппети-старший работал только с черно-белым фото.
—
…Мало ли людей на земле одновременно кричали весенним воскресеньем, 18-го мая 1969 года в 7.34 утра по Гринвичу? От счастья, радости, восторга! Или от горя, злости и ненависти…
Ива, жена подозрительного Астона, искренне, протяжно и очень индивидуально кричала от… испуга!
Вот почему так бывает: благородный зрелый муж в свободных черных трусах и желтоватой майке, подгоняемый разъяренными ноздрями, отважно мчится спасать молоденькую (30 лет разницы — это «хэч», пустячок) жену из полного опасностей плена душевой комнаты, но сам выглядит при этом, как «нечистое» существо, ощетинившееся бакенбардами, из какого-нибудь лихого средневекового бестиария?
Exorcizamus te, omnis immundus spiritus… и так далее. Короче, Amen!
По законному брачному праву Астон, сбив защелку, первым и единственным ворвался в душевую каморку!
Нет, ну как же чертовски была хороша Ива в этой маленькой, словно созданной для обрядового потения, парильне!
Астон в дополнительный раз убедился, что смело может рассчитывать если не на вечное, то на преодолевающее, как минимум, первое после ЗАГСа столетие цветение нежностей Ивы. Ну и что, что сам он жертвенно увянет гораздо раньше.
Трепетная, немного дикая в своей обнаженности, с пряной, чувственно испуганной кожей, белыми, как культивированный жемчуг, зубами, она в тусклом серебре пара моляще раскрылась навстречу Астону: «Там – чей-то глаз!».
И Ива, то ли как мистерию, то ли как фарс, описала механическое, ритмичное перемещение «человеческого глаза в стене»: вниз-верх-вниз-верх…
—
Из-за легкой, практически фанерной перегородки, между общими душевой и кухней, Астон вытащил громко отбивающегося Жаву. За уши и шкирку.
В перегородке были проделаны две дыры приблизительно на уровне груди и бедер Ивы. Размер отверстий соответствовал лункам для подледного лова крупной рыбы.
Когда Жава успел незаметно подготовить их, дрелью расширяя первоначальный диаметр? Ответ знает только его искуситель.
Со стороны кухни наблюдательный пункт был аккуратно замаскирован кусками обоев, подклеенных к стене крахмалом.
Жава долго ждал и верил в условие совпадения двух обстоятельств: Ива купается = на кухне никого нет.
И вот, судьба вознаградила его за недетское титаническое упорство!
Жава даже успел почувствовать себя могучим гребцом, способным удержать уверенными руками крепкий челнок в любом водовороте событий…
—
Потихоньку к месту происшествия стали подтягиваться и другие действующие лица намечающегося moralité: портной Ашик, буфетчица Бата, цеховик Партош и пенсионерка тетушка Кесли, которая входила в круг явных недоброжелателей Адарии.
Астон (готовый лично привести приговор в исполнение):
— Казнить!
Ашик (нарочито протокольно):
— Сначала надо выяснить, что мальчик видел!
Бата (со смешанными чувствами):
— Все-таки ребенок… Только бичевать.
Партош (насмешливо-авторитетно)
— Астон, «не стракуй» — не крути мозги, себя вспомни…
Тетушка Кесли (торжествующе-удивленно)
— Адари-джан, ты говорила «он видит все, он видит все…». Зачем тогда дырки делает и подглядывает? А?
—
От страстей на полыхнувшей ором кухне, толком не начавшись, день устал так, что никто, включая тетушку Кесли, не понял главного: это – любовь! Ранняя-преранняя! В то утро она вероломно обрушилась на Жаву, мучительно, с гневной ревностью, с разъедающей завистью, до поры до времени скрывавшего от всех свою, вконец, созревшую страсть.
Как упертый молодой бычок, стоял он один против всех, пожалуй, впервые даже против Адарии и не чувствовал ни трепета, ни раскаяния.
С Ивой, женщиной, волновавшей его уже больше года (ва-ва-ва!!!), тайны которой он, начинающий грешник, сегодня попытался познать, они обязательно будут вместе!
В Риме или нет, без разницы!
Или «вы все, клянусь мамой», скорее услышите, как заговорит лоснящийся усатый тюлень в городском зоопарке.
Надо только немного подождать и придёт «именно та женщина, какую ты хотел»*, а мама, сдавшись, аккуратно поддевая мед ножом, станет мазать им теперь уже двоим «в бутерброд» огурцы, купленные у старичка, уличного торговца, разносчика овощей и фруктов, гнущегося под парой здоровых, серых мешков, голосом и лицом без бакенбард очень и очень похожего на этого «вонючего, г@внистого» козла и бывшего мужа – Астона.
*Эдвард Мунк, «Дневники и письма»