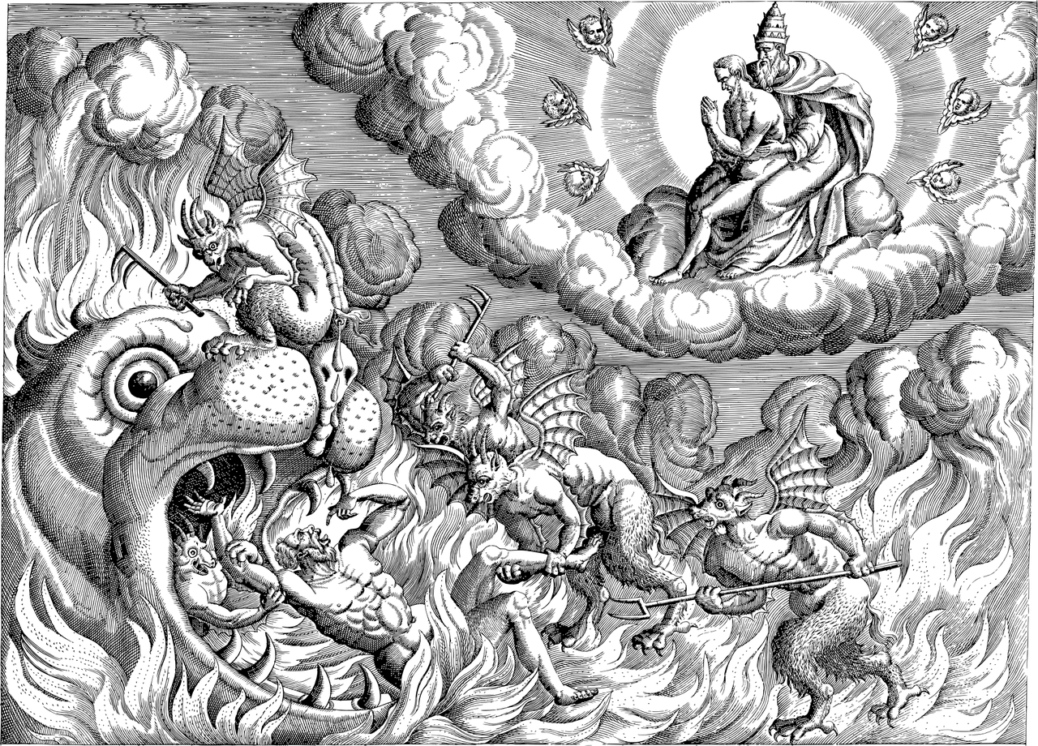ноэль
Мчатся олени. Разметывают снежную пудру, высекают копытами искры. Снопы-фейерверки осыпаются в млечном тумане подобием звезд. Сани заносит. Свистят, рождая вихри, полозья. Дрожат дымоходы, тяжелеют чулки. Горожане уютно вздрагивают во сне. Благоухают мандарины, шуршит фольга.
Тут из небесного мешка вываливается шило. Оно летит, кувыркаясь в арктических воздушных потоках. Частично сгорает в плотных слоях. От него остается микроскопический кончик.
Время за полночь. Распахивается дверь городского морга. На мороз выходит мужчина в халате поверх толстого свитера. Он потягивается и делает глубокий вдох. Легкие, слипшиеся от смолы, хрустят и расправляются. Это доктор Секач, которого товарищи зовут Харон-Похорон. В обыденной жизни – невзрачный Иван Николаевич.
Надышавшись, Секач берется за дверную ручку, но медлит, морщится и яростно скребет в затылке. Потом встряхивает пегой гривой и скрывается внутри.
***
Шнырь окочуривается на первой подвернувшейся лавочке. И лежит, завалившись. Нога нелепо торчит. Приезжает следственная машина, высаживает стража. Тот остается караулить, наружностью вполне годясь мертвецу в собутыльники. Жильцы ходят мимо, поглядывают бегло, невозмутимо скрываются в подъезде. Подмораживает. Появляются криминалисты. Давно стемнело. Эксперт напоминает классического третьего. Правда, во лбу он имеет фонарь, будто метит в диггеры. Минут через десять уезжает и он, а часовой все стоит. Шнырь упивается вечным покоем, освободившись от тирании рубля. Он лежит три часа, покуда не отправляется на последний прием к врачу.
Доктор Секач распарывает Шныря цельнометаллическим тесаком. Рассеянно мурча, засовывает руку в разверстую грудь, заводит в горло. Выдирает язык, выделяет гортань и глотку. Включает маленькую пилу, вскрывает череп. С негромким треском стягивает лицо, отбрасывает лоскутом на зияющую пасть. Выпускает на поднос мозг. Тот будто и сам выныривает, изнемогший, словно желток на сковородку. Секач озирается в поисках тряпки. Берет трусы Шныря, промокает полость черепа и там оставляет.
Покончив с делом, моется, угощается шилом. Это, если кто-то не знает, спирт. Потом выписывает медицинское свидетельство о смерти. Личность Шныря установлена, затруднений не возникает. Смотрит на календарь. Квадратик застыл на двадцать четвертом декабря. Харон-Похорон делает ход, и тот переползает на следующую клетку.
— Двадцать четвертого рано, – бормочет нараспев Секач и воздевает палец. Качает головой: — А двадцать пятого уже поздно!
У доктора свои сочельники, святки и святцы. Революционная белиберда засела в его голове со студенческих лет. Но он помнит о Рождестве. Лучи сигнальной звезды разошлись, как ножки циркуля. Именно что небесная канцелярия. Секач машинально считает дни до отечественного праздника. Он знает, что циркульный шаг равен тринадцати, но уже поздняя ночь, Секач устал и больше ни на что не годится. Разумеется, кроме покойников. До утра привозят еще шестерых. Неизвестных нет, и это редкость. Доктор, выпустив им кишки, выписывает документы. Он называет их путевками в жизнь.
Без всякой задней мысли.
Но попадает в точку, ибо глумиться не след, и сколь веревочка не вейся, найдется конец. Проходят сутки, и Шнырь оживает в городском крематории. Он садится в дешевом гробу и тупо смотрит на бумажные туфли. Гример падает замертво. Случай мгновенно попадает в прессу, но как о нем говорить, не знает никто.
А через два дня оживают остальные шестеро.
И десять свежих, которых Секач успел выпотрошить и оформить, но еще не отправил.
Пресса умолкает, ее прикрывают на третьем мертвеце. По городу ползут слухи. Морг, как умеет, гудит. Компания скромная, но с некоторых пор поглядывает на столы. Возможно, собеседников станет больше. До Секача еще не доходит главное, но исподволь что-то уже гложет его, некие смутные подозрения. Он понимает, что очутился в эпицентре событий, но пока не догадывается, что сам и является эпицентром. Во всяком случае, он больше не напевает.
Тем временем ему говорят:
— Вот тебе и Харон-Похорон!
Секачу мерещится, будто он совершил нечто непристойное – предал профессию, что ли. Он режет, он сверлит и шьет через край. Наступает Новый год. Харон-Похорон отмечает его на дежурстве. Он наливает спирт и опасливо ждет боя курантов. Ему почему-то кажется, что сразу кто-нибудь оживет. Но нет, бой заканчивается без последствий. Секач облегченно глядит на экран портативного телевизора. На него надвигается цифра: год начался. Время пошло. Ему известно лучше, чем кому-то еще, что обратный отсчет продолжается и никогда не прекращался, хотя черт его знает теперь, но доктор все равно немного взволнован. Он живой и не чужд упований. Одно желание уже сбылось: с курантами никто не очнулся. В коридоре не шаркают. Не лезет недоуменная харя, вертящая в руках белье, побывавшее в черепушке. Звучит гимн, колышется флаг. Не едут ни полиция, ни газета, ни серьезные люди без опознавательных знаков, в последние дни зачастившие. Он допивает. Покойник приходит минутой позже, когда начинается праздничный концерт. Он ни секунды не зомби, и все у него на месте, хотя двумя часами раньше Харон-Похорон опустошил его начисто.
— А в чем, позвольте поинтересоваться, дело? – спрашивает труп, и видно, что все ему ясно и дальше начнется негодование.
Секач швыряет в стену стакан, лаконично ругается и выбегает, в чем был, на мороз.
Там его хватают и усаживают в бронированную машину.
Вокруг гремит канонада. Грохот, свист и дерзновение салютов, которые расцветают там и сям, но остаются убогим и ненужным дополнением к ледяному бархату, испещренному булавочными головками. Воет осатаневший пес, раздаются дикие возгласы. Невидимый ухарь растягивает меха, играет и сбивается гармонь. Снег падает скудно, будто выбили шапку. Ему неоткуда, небо безоблачно, однако он есть. Полное безлюдье, потерянно ликует сыра земля. Белым паром дымится люк. Парит недосягаемая и одинокая чайка.
Секача вывозят за город, где нет ничего, кроме снега и черного леса.
И забора, за которым находится якобы воинская часть, а на самом деле – кое-что похуже.
Допрос начинается безотлагательно. Все, как он читал в книжках: стол, стул, лампа в глаза.
— Иван Николаевич! – слышит Секач. – Это вы расписались?
Выкладывают бумаги, это свидетельства о смерти. Все они выписаны Секачом.
— Оживают только ваши крестнички, – струится вкрадчивая речь. – Почему так получается?
До Харона-Похорона начинает доходить. Еще не вполне осознав действительность, он разводит руками:
— Не могу знать!
Выражение не из его словаря. Секач даже не служил. Это что-то древнее, соборное.
— Не можете…
Его ударяют в ухо, а он и не понимал, что поблизости кто-то стоял. Но ухотычина настолько ожидаема, предсказуема и хрестоматийна, что Секач совершенно ошеломлен. На то и расчет.
— Давно покойников оживляете? – интересуется лампа.
Она неизменно любезна.
— Я не при чем, — скулит всклокоченный Секач.
В любой беседе он, без всякого зла и волей профессиональной деформации, имеет привычку оценивать внутреннее строение визави, воображая его на секционном столе. Но нынче все куда-то пропадает.
— Понятно.
Ему кажется, что лампа кивает. Глаза слепит, и пляшут пятна, и непонятно уже, чего не может быть.
Секача без слов подхватывают под мышки и ведут в холодный ангар. Он не сразу привыкает к тамошнему освещению. Потом распознает стрелковый тир. Но вместо картонных мишеней видит не пойми кого, каких-то неугодных с мешками на головах. Секач не имеет понятия, что это за преступники. Не иначе, натворили бед. Он, конечно, ни о чем таком не думает, как и вообще о чем-либо. Секач умаляется до бесстрастного фотоаппарата. Дородный мужчина в костюме вскидывает пистолет и сноровисто укладывает всех, человек восемь. Секача придерживают. Мужчина идет к покойникам и компостирует им мозги не глядя и на ходу. Секача волокут в какую-то каморку. Кладут на стол бланки. Это незаполненные свидетельства о смерти.
— За работу, Иван Николаевич. Посмотрим, что вы за птица.
Харон-Похорон смекает, в чем дело. Берет деревянными пальцами ручку.
— На кого писать-то? – интересуется он хрипло.
Перечисляются имена. Какие-то цыгане и молдаване. Один узбек. Когда Секач доканчивает восьмое свидетельство, из ангара доносится вопль, сопровождаемый испуганной бранью.
— Ясненько, – говорят над Секачом.
Поднимается шум, но доктора уводят, и он не видит происходящего, хотя догадывается.
Дальнейшее сливается, дни и ночи.
К Ивану Николаевичу подводят электричество, натравливают змей. Сажают к крысам. Ему колют сыворотки, облегчающие раскаяние. Лупят по ушам. Сверлят зубы. Кастрируют. Подвешивают на крюк и охаживают кнутом. Гипнотизируют. Подселяют осведомителя. Дважды ложно расстреливают и один раз топят.
Он ничем не может помочь.
К нему призывают самого Фала Пещеристого – матерого исповедника, старейшего кадрового сотрудника из черного духовенства. Тот уходит ни с чем. Правда, Секач обретает веру, но Фал таких поналепил уже сотни и только машет рукой. Это побочный эффект. Он взбешен, ибо рискует генеральскими погонами.
Харон-Похорона возвращают под лампу. Он уже привык и теперь хорошо видит все.
— Не знаю, что с вами и делать, — качает головой собеседник. – Впрочем, есть заманчивые предложения. Не исключено, что перед вами откроются блестящие перспективы.
Секач тупо смотрит на календарь. На работе такой же. Он потерял счет времени. Оказывается, прошло всего ничего – неделя. Квадратик красуется на седьмом января.
— Дайте бумагу, – просит Секач.
За столом вскидывают брови.
— Неужто припомнили что-то?
— Может быть. Дайте. Мне нужно сосредоточиться.
Чего-чего, а бумаги здесь хватает. Надежда слабая. Все же не бланк. Однако обещанные перспективы, которые вдруг постигает Харон-Похорон, настолько ужасны для человечества, что он попытается.
Секач прикрывается рукой.
— Не подглядывайте, – велит он. – Я вдруг открыл, что при свидетелях не получится.
Озарение сомнительно, но требование выполняется. Мало ли что. За столом знают еще меньше.
Секач выводит: «Свидетельство о рождении». Надежда тает. Он не имеет понятия, на кого писать. Не ведает ни фамилии, ни имени-отчества. Он слышал только звание. Приходится создавать словесный портрет: мордатая скотина с пытливым взором, лет сорока. Полковник.
Через час путь свободен.
Коридор усеян трупами.
У доктора болит кисть, он много и напряженно писал. Еще и с нажимом. На среднем пальце вздувается белесая мозоль.
Секач кое-как отключает сигнализацию и выходит на белый свет. Полдень. Он ловит попутку и едет в город. День выходной, людей на улицах немного.
Харон-Похорон взирает из-под ладони на далекие купола.
Потом переводит взгляд на газетный ларек. Присматривается к обложкам, заголовкам и первым полосам.
На губах у него появляется слабая улыбка.