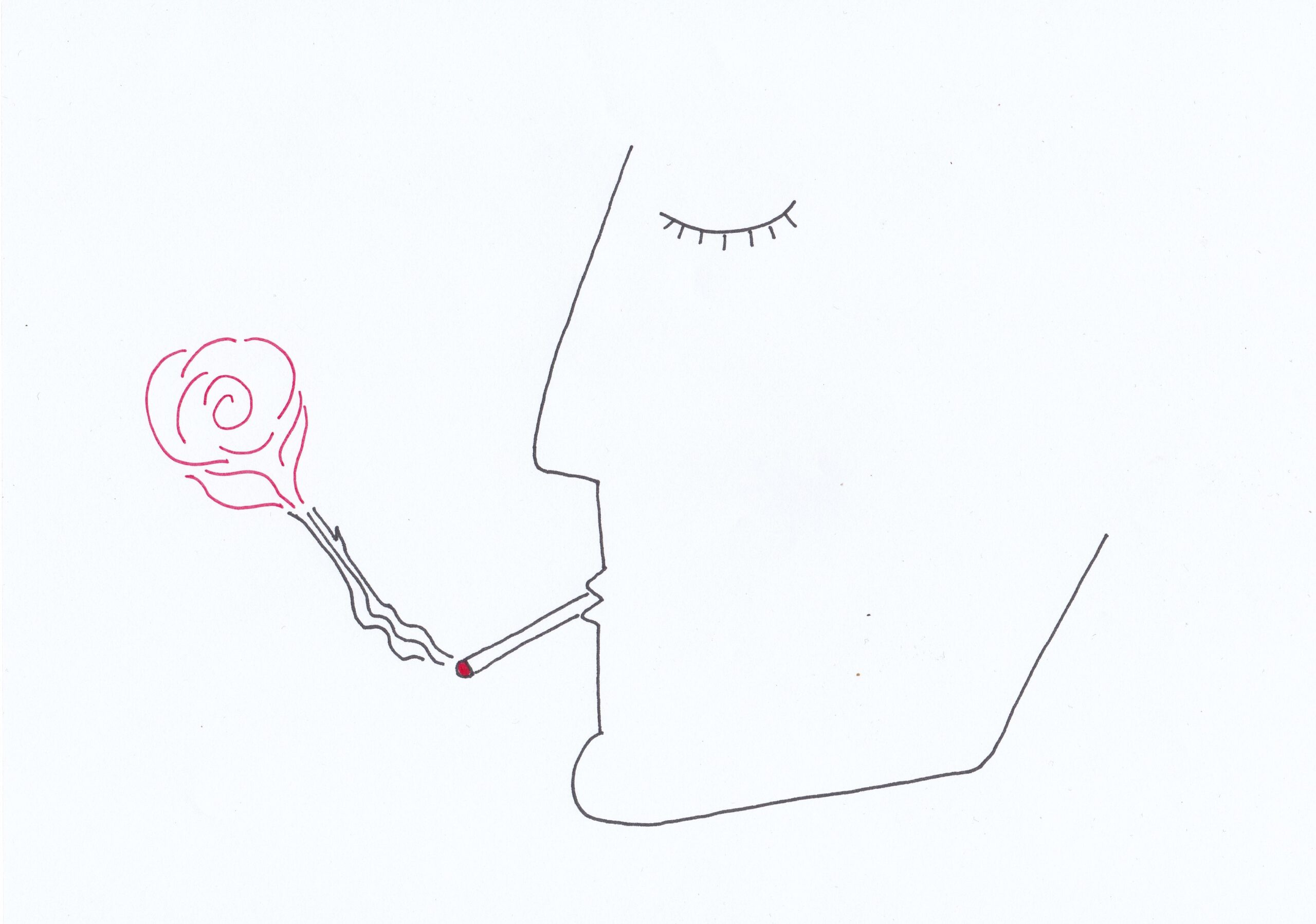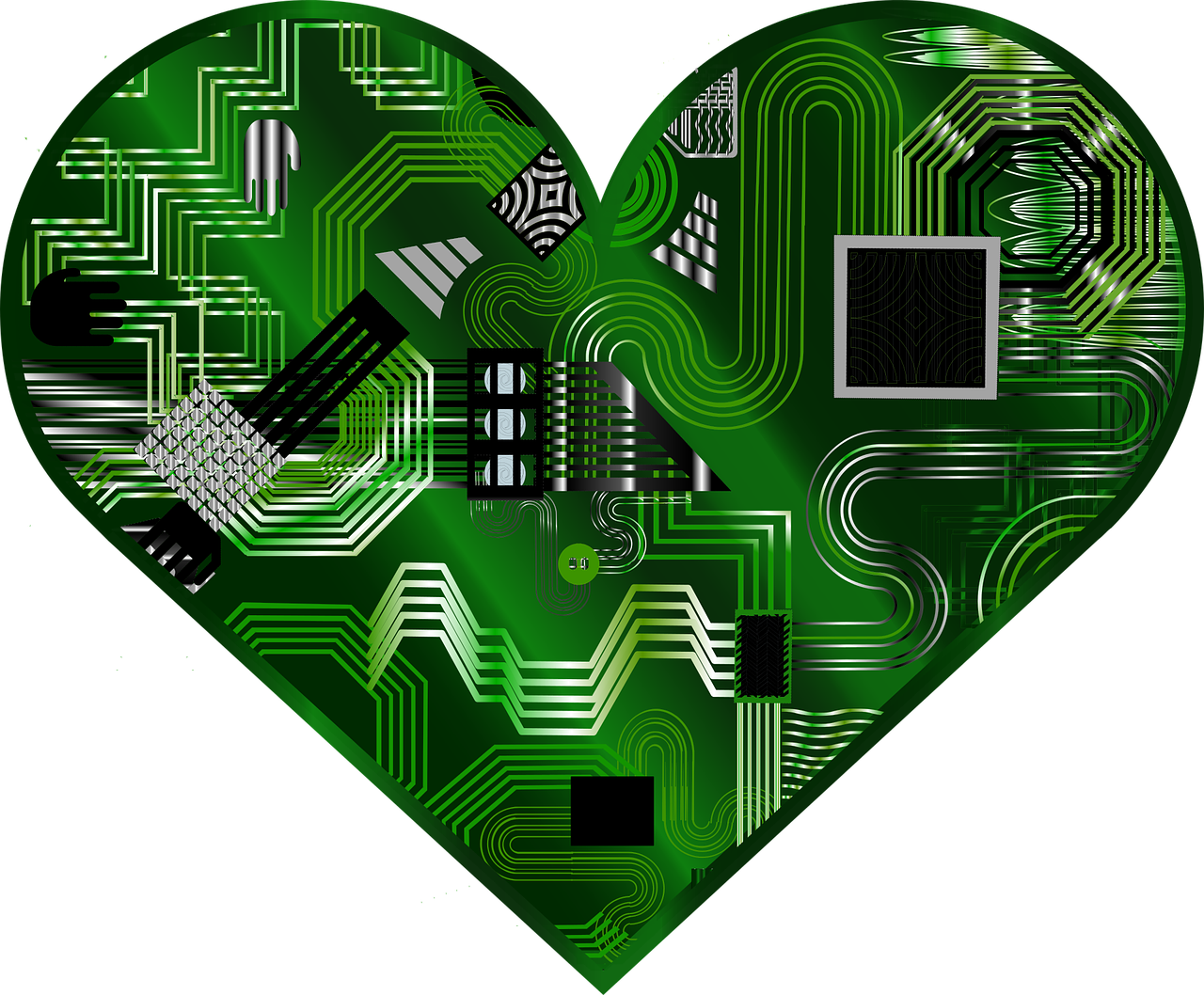* * *
У северного подножия Фудзи расположен лес под названием Аокигахара, что в переводе с японского означает «Равнина синих деревьев». За красивым названием скрывается тысячелетняя история смерти. Лес вырос на остывшей базальтовой лаве, выплеснувшейся когда-то из жерла Фудзиямы. Так как корни деревьев не могут пробиться сквозь базальт и уйти в глубину, они змеями ползут по поверхности земли, переплетаются друг с другом и порождают чудовищ. В прежние века жители близлежащих деревень приводили сюда детей и стариков, которых не могли прокормить. Души брошенных на голодную смерть несчастных до сих пор не в состоянии сбежать из густого леса, доверху набитого наслоениями жутких сказок. Сквозь кроны деревьев почти не проникает свет дня, и в вечной тьме души мечутся среди замшелых корней и путают следы и мысли забредающих сюда туристов, пытаясь хотя бы кому-то отомстить за свою нелепую древнюю смерть.
Души мертвых призывают души живых. В лесу Аокигахара ежегодно добровольно уходят из жизни сотни людей, вследствие чего в Японии его называют Лесом самоубийц, а местные муниципальные власти содержат специальные команды, регулярно прочесывающие лес в поисках трупов. По версии бестселлера «Полное руководство по самоубийству» лес у подножия Фудзи является лучшим местом для сведения счетов с жизнью. В попкультуре распространено мнение, согласно которому автор книги Ватару Цуруми написал ее уже после своей смерти и передал издателям на встрече демонов и людей, прошедшей в 1992 году на границе префектур Яманаси и Токио. С тех пор экземпляр «Руководства» часто находят рядом с мертвыми телами в лесу Аокигахара, а каждый второй самоубийца, навсегда уходящий в сумрачные дебри, смутно понимает, что последним своим действием исполняет не столько свое собственное желание расстаться с жизнью, сколько желание леса заполучить очередную душу, которая напитает его своими сладкими соками и запасом вечности.
- Новая добыча Леса самоубийц
Мы лежали на заднем сиденье и слушали, что говорят мужчины.
Тот, которого мы называли Филин, говорил Толстяку, что до рассвета нужно доехать до Иокогамы и забрать там у какого-то Андрея автобус. А потом в Токио, после того, как закончатся уроки в начальной школе, насажать в него новеньких.
— Князь хочет разнообразия, — говорил Филин, хмуря лохматые брови. — Так что зацепим пару зайчиков.
— Будем с тобой дед Мазай и зайцы! — смеялся Толстяк.
Еще они говорили, что мы были хорошие, потому что красивые и послушные. Но Князю уже через неделю стало скучно, и поэтому нас пора отправить к папе. Мы не понимали, как они собираются это сделать, потому что помнили, как папа умер, и от этого становилось еще страшнее.
За окнами машины было темно. Когда мы исподтишка выглядывали между передних сидений, то видели дорогу, которая несла нас через лес, а впереди в небе — желтое сияние. Наверное, это светился Токио. Нам снова сильно захотелось домой, и мы заплакали. Мы старались громко не реветь и утыкались поглубже в щель между сиденьем и спинкой.
Неожиданно машина поехала медленнее, переваливаясь через какие-то кочки, и скоро совсем остановилась. Мы вытерли слезы и сели прямо. Филин выключил двигатель, посмотрел на Толстяка, а потом достал сигарету и стал чиркать зажигалкой. Толстяк открыл дверцу и выполз на траву. Вжимаясь в кресло, мы смотрели, как он подошел к нашей двери, наклонился и стал разглядывать нас через стекло. Он поднял руку, и мы увидели в ней нож, длинный и широкий, с пилой на обратной стороне лезвия. Толстяк улыбнулся. Он очень любил страшно улыбаться, говорить гадости и делать больно. Хотя Филин все равно был страшнее, потому что он молчал, а делал больнее всех.
Толстяк спрятал нож, открыл дверь и стал хватать нас за руки и вытаскивать из машины. Мы просили его отпустить нас, но он только тихо ругался и пытался ударить нас по щеке. А потом сказал:
— Пойдем, пойдем, сейчас отпущу.
Тогда мы вылезли и пошли с ним. Толстяк включил фонарик и потянул нас за руку в лес. Он шел быстро, отпинывая лежащие на пути сучья и переступая через высокие корни. Нам приходилось почти бежать за ним, чтобы не упасть. Оказавшись на небольшом возвышении, он решил, что мы пришли, положил фонарик в развилку дерева так, чтобы тот светил на землю, снял с себя куртку и бросил ее на толстый ковер из синего мха. Потом схватил нас и кинул на куртку. Он сел на наши ноги и задрал нам юбку.
— В последний раз, — сказал он и снова заулыбался.
На земле было холодно. Но было уже не так страшно, потому что в последний раз. Мы вспомнили маму и что она вернулась в Токио и ждет нас дома. Папы больше нет, думали мы, но мы-то ведь еще можем вернуться домой!
Толстяк разорвал нам блузку и снова достал нож. Он стал водить лезвием нам по животу и груди и иногда вдавливать кончик в кожу. Тогда из разрезов бежала кровь. Мы плакали и кричали по-японски:
— Итай, итай! — забыв, как говорят по-русски, когда больно.
Но Толстяк, как всегда, только смеялся и скалил свои заточенные треугольниками зубы.
Когда ему надоело, он воткнул нож в землю и стал расстегивать штаны. А потом вдруг произошло странное. Он дернулся, как будто что-то ударило его изнутри, громко рыгнул и застыл.
— В воду, злосчастный упал, — прохрипел он. — И живой уж не выплыл…
И стал медленно, как гора, падать на нас.
Мы успели выползти из-под него, изо всех сил отталкиваясь руками и ногами, а он бухнулся на свою куртку и больше не шевелился. Из спины у него торчала тонкая блестящая палка с красными и желтыми пластмассовыми перышками.
Мы долго смотрели на эти перышки и слушали, как на весь лес бьется наше сердце. А через несколько секунд или, может быть, минут мы поняли, что Толстяка больше нет. Он умер. Как-то так получилось, что мы остались живы, а он умер.
Мы лежали и ждали, пока что-нибудь случится, но ничего больше не случалось. Толстяк не зашевелился, вторая стрела не прилетела и никто не вышел к нам из-за деревьев.
Только вдалеке, как будто из другого мира, два раза просигналила машина.
Тогда мы перестали ждать, встали, выдернули из земли нож Толстяка и побежали обратно. Фонарик мы оставили лежать в развилке. Вокруг было темно, но глаза уже привыкли к темноте и стали лучше различать силуэты деревьев. В гулкой тишине мы перепрыгивали через торчащие вверх корни, обходили лисьи норы и перелезали через поваленные стволы, поросшие мхом и грибами. Мы искали глазами пятнышки света от фар машины и наконец увидели их — впереди и немного в стороне. Мы побежали на свет, и на бегу нам казалось, что свет прыгает между деревьев, как потерявшаяся в ночи бабочка.
Стараясь мягко ступать по сырому мху, мы осторожно подошли к краю поляны, на которой стояла машина. Дверь водителя была открыта, в салоне горела лампочка, а Филин развалился за рулем. Он курил сигарету и читал журнал с лоликоном.
Мы обошли машину сзади и подкрались к открытой двери. Сжимая в руке нож, мы запрыгнули внутрь, прямо Филину на колени, и стали быстро-быстро втыкать лезвие ему в лицо и в шею. Он закричал, попытался вытолкнуть нас из машины, но мешал руль. Он стал уворачиваться и закрываться руками, но было поздно — нож уже несколько раз вошел в него, как в буханку хлеба. Филин ругался и хрипел, но потом все-таки опустил руки, и тогда мы ударили ножом в один из его выпученных глаз. А потом во второй. Все лицо Филина было в крови, в его глазах чавкала жидкость, похожая на мед, он ослаб и размягчился, как будто стал засыпать, а мы все еще держали липкий нож обеими руками и со всей силы втыкали его в Филина, чтобы тот и не думал больше никогда просыпаться.
Только когда вместо Филина в машине остался огромный расползшийся по водительскому креслу вишневый пирог, мы перестали кричать и плакать. Мы в последний раз засунули нож в его лицо, залитое темным густым вареньем, и вылезли из машины.
На земле мы поскользнулись и упали на колени. В голове гудело и искрилось, как будто она разваливалась на две части. Мы раскачивались из стороны в сторону, закрыв лицо руками и дожидаясь, пока это пройдет, а затем поднялись и по следам машины побежали к дороге. Наверху в тишине кто-то шевелил большими крыльями.
- Демоны ночного ветра и полной луны
Мы выбежали на дорогу и пошли по обочине в сторону светящегося неба. Вокруг было пусто и тихо, только из леса иногда прилетали странные, непохожие на городские, звуки. А потом впереди появился высокий тонкий человек. Он шагнул из леса, и сначала нам почудилось, будто на дорогу шагнуло дерево. Но потом черный силуэт широко развел руки и пошел в нашу сторону.
Мы не испугались. Наш страх остался позади, под мертвым Толстяком и на заднем сиденье машины, где лежал Филин. Нас наполнило какое-то новое чувство, как будто нас уже ничего не могло напугать, как будто самое страшное в мире — это теперь и есть мы сами. Как будто мы теперь могли делать все, что захотим, и нас уже никто не мог остановить.
Поэтому мы просто сжали кулаки и быстрее пошли вперед, прямо к высокому тонкому человеку. Мы шли по дороге навстречу друг другу, и с каждым шагом человек становился все ниже и ниже, и когда до него осталось всего три или четыре шага, он стал обычного роста. Он остановился посреди дороги и еще шире развел руки.
— Лиза-тян? — спросил он.
И тут стало понятно, что это Сеня Накосиков. Мы бросились к нему и бухнулись в его грудь, обняли, уткнулись в твердое и теплое и зарыдали, забыв про то, что нам теперь ничего не страшно. Большое горькое солнце, крутившееся в груди, потухло и остановилось.
— Лизка, — сказал Сеня Накосиков, прижимая нас к себе.
— Сеня, Сеня, Сеня, — повторяли мы без конца его имя.
— Я тебя нашел, — сказал он.
— Сеня, ты отведешь нас домой? — спросили мы, глядя на него снизу вверх.
— Вас? — переспросил он и огляделся.
Потом он внимательно на нас посмотрел и сказал:
— Давай присядем.
Он стянул с себя и накинул нам на плечи куртку и повел нас к краю дороги. Оттуда в лес уходила узкая тропинка. Рядом с ней стоял большой щит с плакатом, а под щитом — скамейка.
— Понимаешь, Лиза-тян, — сказал Сеня, садясь на скамейку. — За эту неделю я сильно изменился. Мне больше нельзя просто так взять и вернуться в Токио. Все это время я ходил между лесом и океаном и искал тебя. Но отвести тебя домой я никак не смогу, прости.
— Нам тоже нельзя домой, — сказали мы. — Мы хотим убить Князя.
Сеня молчал и пристально смотрел на нас. Тогда мы тоже сели на скамейку. Мы сели по обе стороны от него, одна слева, другая справа. Он какое-то время разглядывал нас, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, а потом спросил:
— Кто такой Князь?
— Демон, — сказали мы слева от него. — Но он слабый демон. Он питается криками детей. Если рядом нет детей, то он как простой человек. Ты намного сильнее его.
— Откуда ты знаешь?
— Мы видели, как ты вышел из леса.
— Это мало что значит.
— Это много значит, просто ты сам еще не понимаешь.
— А ты понимаешь?
— Мы теперь много чего понимаем.
— Лизка, ты вообще где была все это время?
— На западе. В горах. У озера Мотосу.
— Ах вот оно что! А я все думал, что они отвезли тебя к побережью.
Мы вспомнили коридор и комнаты в подвале дома, откуда не было выхода, зажмурились и снова чуть не заплакали. Но не заплакали.
— Сеня, ты видел маму? — спросили мы справа от Сени.
Он повернулся.
— Нет, не видел. Но я знаю, что она вернулась из Москвы. Она тебя ждет.
— Ты знаешь, как дойти до Токио?
— Пешком до Токио далеко. Тебе нужно дойти до Нарусавы, это километра два по дороге, совсем близко. Через полчаса ты подойдешь к первым домам. Просто стучись там во все двери, люди вызовут полицию, а полицейские отвезут тебя домой. И все будет хорошо. Твоя мама будет очень-очень счастлива. И ты тоже.
«Счастлива?» — недоверчиво подумали мы, глядя на него.
Где-то далеко-далеко за горами тонко прогудел поезд. Он мчался сквозь ночь от одной станции к другой и одновременно соединял и разъединял людей, живущих в городах и поселках на его пути. Хотя может быть, этот поезд вообще не останавливался на станциях, а шел куда-то сквозь страны и время и был нужен для того, чтобы соединять совсем не людей, а что-то другое, о чем мы никогда не догадаемся.
Звук далекого поезда растворился в нашем мире, как капля молока в чае. Мы увидели, что на плакате, который был приклеен на щит рядом со скамейкой, было написано по-японски: «Ваша жизнь это бесценный дар ваших родителей. Подумайте о них прежде, чем входить в этот лес».
Мы поморгали и спросили:
— Сеня, ты поможешь нам убить Князя?
— Да, Лиза-тян, — Он снова повернулся влево. — Вот это я точно смогу. С удовольствием. У меня с ними свои счеты. Но в первую очередь, я убью их за тебя.
— Не всех, — сказали мы. — Князя мы убьем сами.
— Договорились, — сказал он.
Мы все, как по команде, встали и обнялись. Сначала с Сеней, потом друг с другом. Это были самые странные обнимашки в мире, непохожие ни на что другое. Мы крепко прижимались друг к другу, касаясь лбами. Смотрели сами себе в глаза и не могли расцепить руки. И понимали, что сейчас все равно их расцепим, отпустим друг друга, и после этого канатик, который нас связывает, натянется и будет становиться все тоньше и тоньше. В конце концов он звонко лопнет, мы окончательно распадемся на две части, разойдемся в разные стороны и больше не встретимся. И это одновременно и хорошо, и плохо. Каждая из нас что-то забудет, а что-то будет помнить только она, потому что нельзя помнить все, особенно когда это касается детства, потому что в нем нужно запоминать либо самое хорошее, либо самое плохое. Потому что только так можно стать кем-то одним и больше не распадаться на кусочки и не превращаться в песчинки, которые все когда-то были людьми и которые теперь с места на место носит ветер.
Сеня Накосиков стоял рядом и смотрел на плакат у тропинки, стараясь нам не мешать. Мы расцепили руки и, продолжая глядеть друг на друга, стали медленно отступать назад, каждая в свою сторону. Мы закрыли глаза и услышали, как сначала тонко, из последних сил, завибрировала, а потом лопнула натянутая струна, как этот звук полетел над дорогой и смешался со звуком снова прогудевшего поезда. И пропал. А вместе с ним пропало все и больше ничего не осталось.
* * *
До пяти лет Лиза Сатарова думала, что русский язык придумала ее мама — специально для того, чтобы разговаривать с ней. Все люди на улицах и в магазинах говорили по-японски. В том числе и папа, который то и дело пытался общаться с Лизой японскими словами. Но мама всегда говорила с ней только на русском.
Поэтому, даже когда Лиза пошла в детский сад, а затем в школу и начала встречать других людей, говоривших по-русски, русский язык оставался для нее языком семьи, дома и любви. Пока она не попала в подвал, откуда не было выхода и где хозяева тоже разговаривали на русском.
Ты появляешься на свет, идешь в школу, тебе кажется, что твоя жизнь будет длиться бесконечно и что в ней всегда будут и мама, и папа, и друзья. Каникулы, манга, семечки, конфеты, подарки, воздушные шары и воскресенья. Но однажды появляется какой-нибудь Сусаноо-но-Микото, бог ураганов и подземного царства, и ломает все твои представления о будущем, сметает твои планы, разрывает твою жизнь на до и после, и вот уже нет больше ни тебя, ни твоей жизни, а есть кто-то другой, кого ты раньше не знал и кого раньше вообще не было, и теперь он живет свою собственную, новую, жизнь. В какой-то момент этот другой появляется из той пустоты, которую внутри тебя оставляет Сусаноо-но-Микото. Он вырастает и становится самостоятельным, а ты сам, может быть, даже все еще думаешь, что это и есть ты, но это, конечно же, не так.
Но это не главное. Даже если ты изменился и стал кем-то другим, тебе все равно нужно жить. Потому что жизнь это единственное, что у нас есть, это единственный подарок, который всегда с нами. И поэтому — наперекор всему и вопреки этой строгой, как учитель математики, реальности — мы все равно должны идти вперед и жить. Просто для того, чтобы жить…
Так думала одиннадцатилетняя девочка Лиза Сатарова, на рассвете нового дня подходя к деревушке Нарусава у северного подножия горы Фудзи-сан в префектуре Яманаси в ста километрах от дышащего огнями Токио.
В то же самое время другая Лиза пробиралась через лес Аокигахара, держа за руку демона, который когда-то был Семеном Накосиковым. Они неслышно двигались между переплетающихся стволов, иногда взлетая над кронами деревьев и избегая освещенных луной дорог. Они двигались на запад, к озеру Мотосу, где в горах пряталась то ли вилла, то ли замок, в котором жил Князь. Своими длинными незримыми пальцами они нащупывали его душу в еще незнакомой темноте. Они вглядывались в сны людей, которые спали в рассыпанных по округе деревнях. Они вдыхали ночной ветер и шли на запах.
Шли, чтобы убивать.
Но это уже другая история строгого реала.