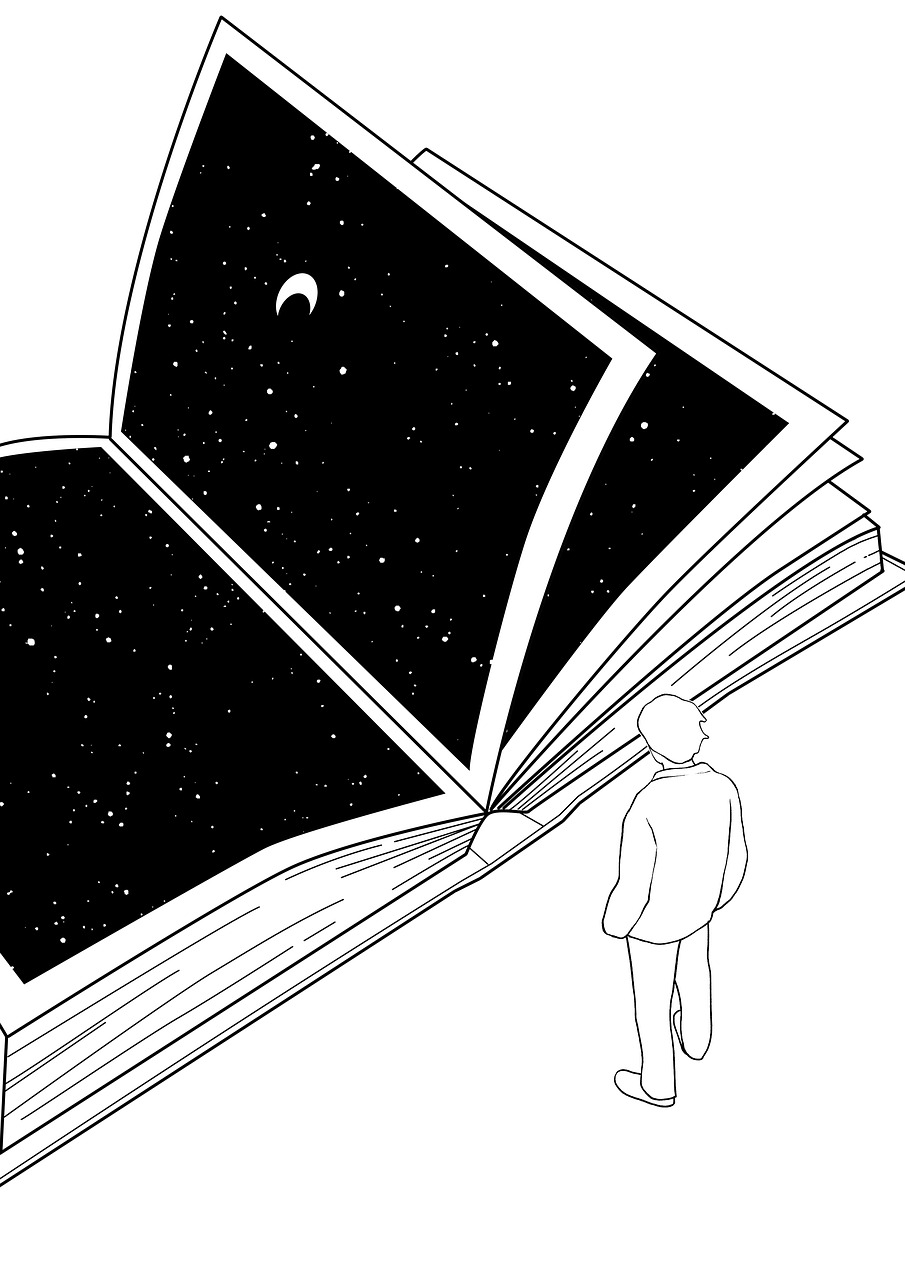Я сидела за письменным столом напротив молчавшего чёрного рояля на первом этаже Национальной библиотеки и пыталась вспомнить своё стихотворение, которое заканчивалось словом «Прощай». Написано оно было мной в девятилетнем возрасте, то есть, очень давно. Я помню, что это «Прощай» было слишком неожиданным для стихотворения, в котором не было ни людей, ни обстоятельств. Как если бы я смотрела на сумрачный лес, или осенний закат, или городскую площадь того или нынешнего времени и выдохнула: «Прощай». Или вдохнула.
Это безадресное слово, поставленное в единственном числе второго лица, словно бы адресовалось лицу. И я задумалась: что я имела тогда, в девять лет, в виду? Может быть, то же, что и сейчас, то есть, ничего?
Сегодня я ни с кем не прощалась, не буду прощаться и завтра. Я произнесла обычное «до свидания». Или «пока». Сейчас не помню. Исключительно «до свидания» говорится людям, с которыми есть официальные отношения.
Речь идёт о случае, когда я ровно могла сказать и «до свидания» и «пока», о случае, возможно, личном. «Прощай» звучит, когда ставят точку. А если слово было брошено в сумрачный лес, на площадь, серому облачному небу? И тогда, в девять лет, и сейчас этот лес, эта площадь, это небо одни и те же. И тогда, и сейчас я имела ввиду одно и то же лицо. Я так думаю.
Слово произнесённое может дробиться каплями воздуха, отражаться в них, как в зеркалах, и тогда адресоваться многим. Сказанное единожды «Прощай» рассыпалось на множество осколков и растворилось в воздухе. Адресата прощания не было. Текст остался между строк. Это было двадцать шестого сентября две тысячи четырнадцатого года в городе Улан-Удэ.
Тщательнейшим образом, мелким аккуратным почерком отличника, господин NN, которому суждено впоследствии мне сниться, выписывал из каталожных карточек названия книг своих друзей и тех, с кем он просто здоровался, если они проходили мимо. Он их прежде читал в одном издании, а потом они неоднократно переиздавались, и это он считал нужным отразить в своём исследовании.
Все его друзья в своих книгах говорили исключительно об одном – как всё неплохо для них и для народа складывается. Казалось ли им так, или так было на самом деле – это, смотря с чем сравнивать, но, в любом случае, правда в этом была. Страна была большая-пребольшая, куда не поедешь, куда не пойдёшь, везде или восходит, или заходит солнце. Везде вылечат, если не хорошо, то не очень плохо. Накормят хлебом и кашей, а рыбу поймай сам. И даже в семьдесят лет можно было ликвидировать безграмотность бесплатно, если она самообнаружена.
Смотрите на вещи снаружи, извне пути, по которому идёте, и перед глазами предстанет масса позитивностей. Друзья NN все до одного были хорошие люди, потому что они были простые люди. Непростые были никому не знакомы, мимо всех они проходили молча.
Друзья NN были его старше, и наступил момент, когда он остался почти без них, обнаруживая из них троих- четверых. Один был уже так стар, что всё время врал, безбожно искажая факты. Второй, с прекрасно поставленной речью, едва волочил ноги по дому, и не осталось ему, с кем поговорить. Третий уехал жить в деревню. Четвёртый тоже не выходил из дома, со всех четырёх сторон окружённый супругой, дождавшейся таки своего часа единственности в малом и большом. Он был доступен для общения, но не мог ни говорить, ни слушать. И всё это были достойнейшие друзья NN.
У него были длинные тонкие смуглые от загара пальцы, и ими он перебирал карточки в каталожных ящиках, вынимая их из шкафов. А что бы ему не подождать лет шесть, когда они буду оцифрованы и их можно будет читать с экрана без всяких тактильных чувственных движений пианиста? Контрабасиста?
Спустя шесть лет библиотека закрылась на всемирный карантин. Но, даже если бы она не закрылась, NN всё равно бы пренебрёг электроникой и сидел, склоняясь над столом и каталожными ящичками, и делал выписки своим аккуратнейшим почерком отличника. Куда прикажете деть привычки и навыки, и путь, с которого сойти невозможно, с длинного и точного, выверенного однажды пути?
Я сидела внизу за письменным столом, глядя на входящих и выходящих из библиотеки людей, на чёрный рояль, про который мне не было известно, звучал ли он когда-нибудь, а потом поднялась этажом выше и стала помогать NN.
Каталожные шкафы были старинные, перекочевавшие в холл второго этажа из других времён и другого здания. Они создавали полумрак с запахом клееного дерева. Они создавали отстранённость от сегодняшнего дня и всего, что могло бы происходить вообще. И это соединяло нас с NN. При этом моя отстранённость была больше, и соединенность с ним была больше, в том числе, и за счёт отстранённости. Я никогда не жила в этом городе, а он жил; я не знала никого из его ушедших старших друзей, а знала тех четверых, что я смогла упомянуть. Его брат и его сёстры жили на одной из соседних улиц, а мой брат за одиннадцать тысяч километров. Сестёр у меня не было вовсе, а были двоюродные. Та, одежду за которой я донашивала, единственная старшая для меня, этой одеждой, шерстяными дорогими платьицами и шубками из цигейки, близкая мне, жившая за три тысячи километров от меня на западе, теперь живёт от меня за три тысячи километров на востоке. И, в целом, у NN было постоянство близкого, а у меня постоянство далёкого. И вот он сказал мне с расстояния пятнадцати сантиметров:
– Пойдём, пообедаем!
И в этом было что-то крайне необычное для меня. Не то, что я не обедаю, а то, что так мне никто обычно не говорит.
А как же Умный город, камеры распознавания лиц? Шесть лет назад всего этого у нас не было. Что было бы? Они бы распознали меня более, чем на пятьдесят процентов и провозгласили бы кому-то, что это – я. Для чего? Я понимаю так, что они транслируют наши изображения тому, кому неизмеримо скучно, и он сидит в коробке размером меньше булавочной головки, назовём его крошка Цимес, и во всю сласть наслаждается массой видимого, ему недоступного въяве. И вся планета обеспечивает ему это онлайн. И вот, камера бы сделала вывод, что у нас с NN близкие отношения. И то, или тот, что сидит в коробке меньше булавочной головки, крошка Цимес, он бы чрезвычайно взволновался, так как нас с NN не разделяет свидетельство о браке, и сообщил бы об этом в спецслужбу. И эта спецслужба разделила бы его волнения. Это было бы так много для разобщенного мира! Волнение в унисон. А оно какое было бы – чувственное или бесчувственное? Скорее, второе. И это уже интересно для нас, для нашего мира людей.
И мы пошли в столовую. Это было обстоятельство. Потом мы вернулись из столовой, нисколько не переменившись в чувствах к друг к другу, в чувствах, не имеющих развития, испытанно тонких, незыблемо вечных, есть над нами камеры распознавания лиц, или нет их. Когда мы вернулись, я бросила взгляд на чёрный молчащий рояль. Это была идея рояля, доступная яви. Он никогда не зазвучит и его никогда не уберут отсюда. На нём никто не умеет играть, но отчего-то его присутствие так важно. Оно напоминает о другой эпохе, когда не было камер распознавания лиц и очень ценилось молчание.
26.09.2014
09.07.2020