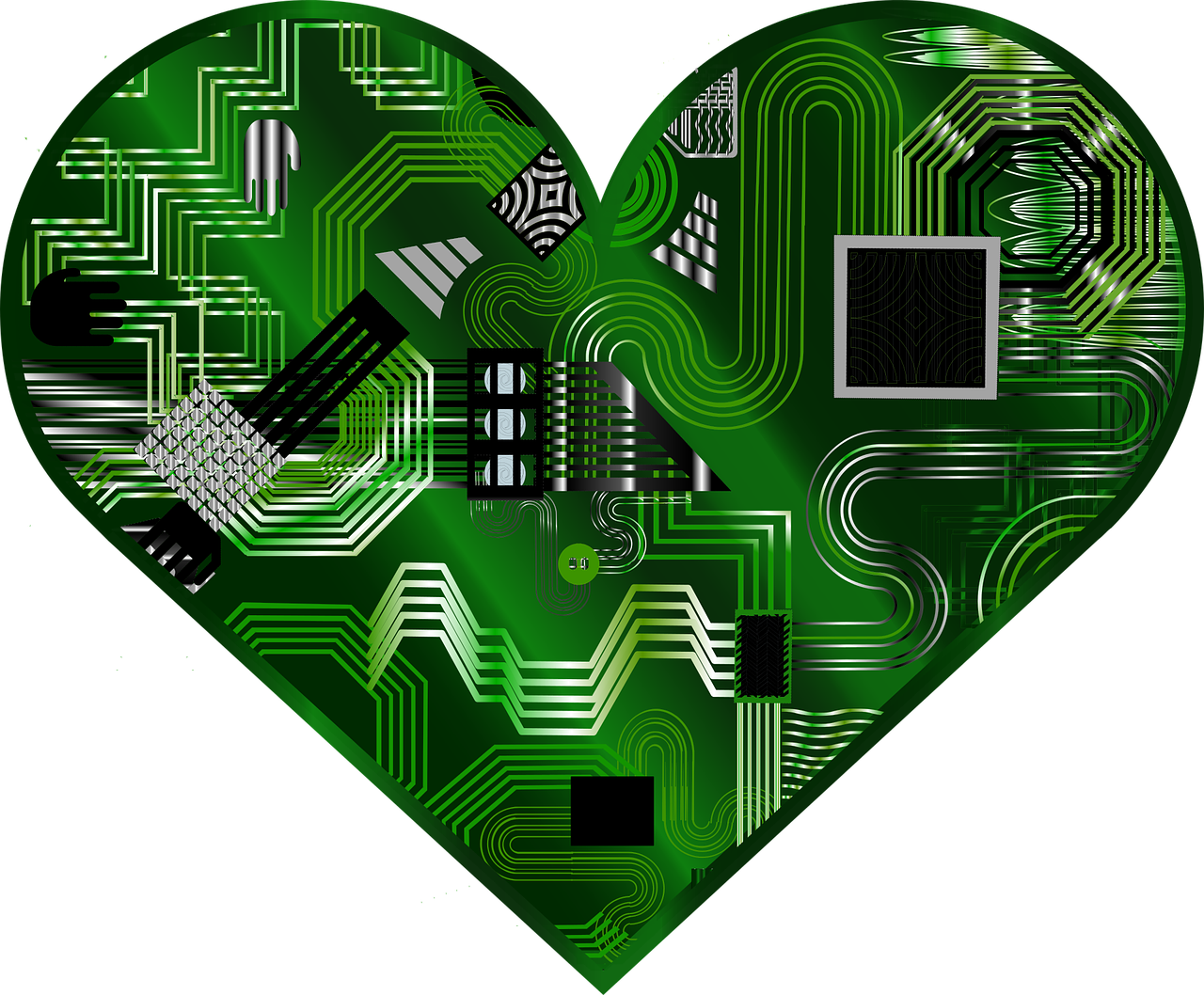Глаза у неё были изжелта-зеленоватые. Кошачьи. Наполненные до самых краёв радужки восторженным, по-детски искрящимся любопытством и одновременно какой-то очень взрослой бездонной глубиной.
Слушая торопливое и порой невнятное бормотание собеседника, она время от времени согласно кивала головой и поддакивала. И в то же время задумчиво, чересчур внимательно, как для девочки-подростка, вглядывалась в его морщинистое серое лицо, отмечала иней перхоти на плечах заношенного, давно вышедшего из моды пиджака, криво повязанный блёклый галстук и несвежий воротник рубахи. Наконец решилась, протяжно вздохнула, улыбнулась чему-то своему, решительным жестом руки прервала вмиг замолчавшего мужчину и легко, без стеснения спросила:
– Дядя Боря, ты – дурак?!
– Что?!
– Разве ты меня не слушаешь? Странно! Мы же беседуем. Пытаемся вести диалог. А диалог предполагает, как минимум, внимание к словам собеседника.
– Да-да… – он закрыл на мгновение непрерывно слезящиеся от жалости к самому себе, а потому не замечающие ничего вокруг, невидящие глаза, с хрустом провел узловатой, как куриная лапка, пятерней сверху вниз по щекам и по сизой, словно остывший пепел, щетине. – Я весь – сосредоточенность и внимание!
– Тогда спрашиваю ещё раз: ты – дурак?!
Этот бесхитростный, заданный прямо в лоб вопрос неожиданно смутил его. Заставил надолго задуматься. А ведь, наверное, – она права. Устами младенца, как говорится… Да! Он действительно дурак. И уже давно. Может быть, с самого раннего детства. Или даже с момента рождения. Скорее всего так и есть. Это же очевидно. Хотя самому себе он никогда бы в этом не признался. Однако, со стороны всегда виднее. Людей вокруг ведь не обманешь. Разве что, все иные прочие были менее внимательны к нему. Или более деликатны чем она и не столь прямолинейны.
Девчонку звали Анной. Красивое еврейское имя. Она и была, кажется, еврейкой. Смуглая до черноты, стройная нахальная чертовка с длинными, по пояс, черными, как смола из адского котла, волосами и ужасной, видать, из того же котла, синевато-серой, напоминающей летучую мышь своей морщинистой голой кожей, собакой, которую Анна ежеутренне выводила на прогулку, и от которой неизменно шарахались все окружающие.
Отца у Анны не было. Вернее, раньше он, конечно же, был. Добрый безобидный очкарик, по-хорошему помешанный на разведении всяческих домашних животных. Такой же помешанный и бестолковый, как и его жена, Анина мама, специалист по грумингу или попросту собачий парикмахер.
У них (об этом судачили на лавочке у подъезда соседки по лестничной клетке), в тесной и убогой двушке с крохотной кухонькой и вытянувшимися трамвайчиком смежными комнатами, хотя хозяева совсем не запойные и в загульном распутстве замечены не были, постоянно царил сущий бедлам. Вони от животных, правда, тоже не было. Но к снующим по квартире прямо у них под ногами, как, кстати, и у многих жильцов дома, не в пример более чистоплотных и аккуратных, рыжим отвратительным тараканам, именуемым «прусаками», надо же, эти помешанные относились неизменно с лаской, теплом и пониманием. Не чертыхались в сердцах. Не жаловались в ЖЭК. Не гонялись за членистоногими паразитами с тапком. Не травили борной кислотой или дихлофосом. А сосуществовали в согласии и взаимопонимании. Такой себе негласный региональный детант: днем «прусаки» стараются не донимать хозяев, по ночам же хозяева всячески избегают беспокоить своих рыжих нахлебников. И утверждают, отвечая смиренно и улыбчиво на расспросы соседей о живности, дескать, это тоже твари божьи и тоже требуют любви и внимания.
Но то у них дома. А снаружи, за тонкой фанерной дверью хрущёвки пропахший человеческим потом режимных проходных, перегарным смогом дребезжащих трамваев, мочой замызганных подворотен и дымным смрадом промышленных труб мир города-завода оказался куда менее расположен к принятию вселенской любви. Мир этот перманентно был безнадёжно прозаичен и крайне жесток.
Некурящий, неизменно улыбающийся очкарик просто не вовремя возвращался домой, срезая для краткости путь через лежащую неподалёку пустынную, с разбитыми фонарями базарную площадь, место в темную пору безлюдное и стремное. Его короткое общение с залётной шпаной, вольготно распивавшей дрянной, но крепкий портвешок-три семёрки на прилавке в овощном ряду (именно залетной – свои доморощенные блатари, зная и принимая странности убогого и безобидного соседа, такого себе никогда бы не позволили!) закончилось трагически.
Аниного отца нашла татарка-дворничиха. Когда под утро пришла прибираться у торговых рядов. Очкарик лежал ничком. Здесь же под прилавком. С торчащим в правой почке трехгранным «ферзём» – воровской заточкой из напильника с зазубренными кромками, острым, как у стилета, жалом и наборной, цветного оргстекла рукояткой. Натёкшая из раны лужица крови уже подсохла. Раздавленные чьим-то тяжелым башмаком очки поблескивали осколками стеклышек рядом. Возле тела нашли пластиковую сумку-переноску, в которой очкарик нёс домой очередного шелудивого щенка. Сам щенок с размозженной головой мохнатой измаранной тряпкой валялся в той же запёкшейся кровавой луже. Так что и не разобрать было, где кровь человечья, а где – собачья. Да это уже и не важно было. Всё едино, как и говорил очкарик, все – божьи твари.
На похоронах Анина мама вела себя совсем не так, как положено вести себя вдове. А надо сказать, что молодых вдов в их дворе-колодце из каре многоквартирных домов было предостаточно. Всеобщее, едва ли не повальное запойное пьянство жильцов, преимущественно заводских работяг, шумное забивание «козла» под неизменный «ершик» из мутноватых граненых стаканов на дощатом столе посреди двора с последующими обязательными, как наступление похмелья, разборками, больше похожими на рукопашную в ближнем бою, тому очень способствовало. Так же, как и криминальная поножовщина по любому поводу: за нежелание в полночь-за полночь делиться засаленными мелкими купюрами или даже мелочью со стайками по-шакальи безжалостных приблатнённых подростков, щерящими острые клыки при нежданной встрече на тесных дорожках узких тротуаров, за прикуренную не вовремя в наливайке папироску, за криво и не к месту оброненное слово в очереди за горячительным. А то и вовсе без видимого повода.
Так что, как положено скорбеть по усопшему и как вести себя на похоронах, знали в доме все. Включая многих детей ясельного возраста, лишившихся безвременно отцов и кормильцев. Правильно было заливаться горючими слезами. Рвать на себе волосы и одежду. Причитать взахлеб. Биться оземь, обнимая склизкую глинистую кучу у ямы и бессильно повисать на чьих-то руках, мешающих броситься вслед за гробом в развёрзтую пасть могилы.
Анина мама вела себя по-другому. Не по-лЮдски. Одно слово: неправильно. Одета была, вроде, подобающе – в темное. На голове неброская шляпка с темной же вуалькой. А всё одно – на скорбящую не похожа. Стояла всю недолгую церемонию молча. Ото всех поодаль. Ни тебе стона. Ни плача. Даже платочка, чтобы обязательно, пусть и для вида, положенную к случаю слезу утирать, в руках не было. Лишь судорожно сжимала побелевшими от напряжения костяшками пальцев ручки лакового черного ридикюля и зло бормотала что-то. Что – разобрали, когда могилку зарывать стали. А зареванная дочь от бабушки вырвалась и к матери бросилась.
– Как же мы теперь, мама! – голосила Аня.
– Как все! – мать схватила дочь за плечи, но не обняла, не прижала к себе, как ожидалось, а, наоборот, оттолкнула. Да та и сама отшатнулась, услышав ее слова. – Жить будем дальше, Анька! Радоваться будем. А об ушедшем горевать совсем не будем. Папашке твоему, если что в жизни и удалось – так это лишь тебя зачать. Да и то, в том больше моя заслуга. Никчемный был. Добытчик никакой. И мужик никудышний. Ни достатком дом обеспечить не сумел. Ни за себя постоять. Чего уж тут жалеть?!
Стоявшие поближе, вдовые через одну, бабы, как такое услышали, выть перестали, платочки к губам прижали, притихли, переглянулись. Оно, конечно, всё так, правду говорит. У них и самих судьбы схожие. Но разве ж можно, чтобы такое, вслух, дочери, у открытой могилы, да ещё при сторонних людях, о едва остывшем покойнике?
Потом, правда, уже на поминках, после столовского, но горячего и наваристого борща с чесночной пампушкой, картофельного пюре с куриной отбивной в традиционном томатном соусе и суховатого капустного салата, после третьей, а то и пятой обязательной рюмки, горькой, беленькой, не чокаясь, чтобы земля пухом и царствие небесное, прибирая в кулек, навынос детям, конфеты-помадку и сладкую булочку, смотрели на вдову, так и не проронившую ни слезинки, уже без осуждения и даже с некоторым пониманием. Некоторые, напоследок перед тем, как стараясь степенно, почти не шатаясь от вдосталь выпитого, направиться к выходу, подходили, сочувственно пожимали ей плечо или, вздыхая, мягко клали свои руки поверх её, по-прежнему сжимающих ридикюль.
Вскорости смерть очкарика забылась. Двор-колодец сотрясали новые события и новые драмы. А мать и дочь стали, как и было обещано над могилой, жить как все. Сама Анькина мать, чертыхаясь и одурев от усталости, с раннего утра до ночи стригла собак в новом, открывшемся поблизости частном салоне. После этого ещё моталась по индивидуальным вызовам. А ещё, подкопив и одолжившись у всех помаленьку, купила суку редкой в городе собачьей породы в надежде завести маститых щенков на продажу и решить этим раз и навсегда вопрос с постоянной нехваткой денег. Специально для этого регулярно списывалась со столичными хозяевами породистых кобельков и возила свою пышущую нерастраченной любовью и природным жаром тела синевато-серую надежду на финансовое благополучие к ним на случку.
А завершавшая к тому времени выпускной одиннадцатый класс Анна ежеутренне выгуливала это диковинное существо с чудным названием «ксолоитцкуинтли», после, уже без собаки, пробегала десятикилометровый маршрут от дома через базарную площадь вдаль по тихой улочке к перегородившему ее областному управлению внутренних дел, а оттуда вправо, по нависающей над рекой улице с сорокалетними елями посреди газона разделительной полосы, спускалась к набережной, добегала до институтского стадиона и вновь повернув направо, полузаброшенным парком, разбитом некогда на месте балки, по дну которой стекали в реку ядовитые заводские стоки, бежала к дому, чтобы пообщаться накоротке у подъезда с соседом, позавтракать горстью заваренной в кипятке овсяной крупы и отправиться в школу. Возвратившись же после занятий домой, она быстро делала уроки и с хрустом разгрызая, если имелись в вазочке на кухне, зеленые кислые яблоки, усаживалась, скрестив ноги, в продавленное кресло или укладывалась на свою узкую кушетку, где и дожидалась возвращения матери, проглатывая одну за другой книги, из пыльного множества, что имелось в изобилии и теснилось в высоченном до потолка шкафу. Дружбы с ровесниками она особой не вела. Да и вообще предпочитала общению с людьми размышления в одиночестве. А если и перебрасывалась изредка с кем-либо парой малозначащих фраз, то это был, прежде всего, тип и вовсе не подходящий для общения со школьницей: одинокий сосед-забулдыга дядя Боря…
…– Вроде и не по возрасту мне перед тобой, Анька, выворачиваться наизнанку. Да и говорить буду многое для твоего девичества несвоевременное. А нет сомнения, ну ни капельки нет, что надо говорить. Именно сейчас. И что поймешь ты меня. Правильно поймешь. Меня и всю жизнь мою непутевую. Другие не поймут. Да я и сам не все понимаю. А ты – поймешь. Обязательно. Может, и подскажешь чего! А не подскажешь – всё легче станет, когда выговорюсь.
– Вот ты сейчас может впервые о своей жизни всерьез задумался, дядя Боря, – усмехнулась девица. – Понял ведь сам, что дурак. Наверное, даже всё прожитое перед глазами мигом единым пролетело. Вспоминаешь, небось, каждый день, на ощупь пробуешь, ищешь, когда всё в первый раз наперекосяк пошло.
– Ведьма ты, Анька! Потому и легко с тобой. Чисто ведьма. Нация подходящая. И весу бараньего. В самый раз для полёта. Только такую метла и выдержит. В былые времена тебя бы запросто на костре сожгли. За длинный язык. За насмешки над соседом. За неуважение к старшим. И за то, что книжки непонятные читаешь. Мыслимое ли дело, нет чтобы слезливые женские романы или детективы на крайний случай, ан гляди, что здесь – вредная и опасная для простого человека скукотища и тоска. Ерш из философии и эзотерики. Неужто это теперь в школе задают?
– Нет. Не задают. Просто самой интересно разобраться.
Обычно каждый раз, после ее пробежки, они недолго (в больших количествах дядя Боря был утомительно бестолковословен) разговаривали, сидя на лавочке у подъезда, где дядя Боря по обыкновению либо кручинился, либо нежился на утреннем солнышке, всегда уже слегка разговевшись и добавив чуток на вчерашние дрожжи. Но сегодня он неожиданно постучался в дверь её квартиры. Почти трезвый. И не для того, чтобы, по обыкновению, денег на самое дешёвое пойло занять. Это он мог и на лавочке попросить. Анна не гордая – сама бы вынесла. А совсем по другой надобности. Видать накипело. До крайности. Душу излить захотел. А кто кроме Аньки забулдыгу слушать будет?
Анна вгляделась в слезящиеся глаза. Вслушалась в невнятное, но на удивление почти трезвое – разве что, с небольшим вчерашним амбре, – бормотание соседа и отступила от двери в глубину коридора, пропуская гостя:
– Заходи, Дядя Боря!..
…Она сидела, по-турецки скрестив ноги на своей кушетке, а гость неловко примостился на краешке колченогого стула напротив и говорил, говорил, говорил, утирая слезившиеся глаза, захлёбываясь, глотая слова и торопясь выговориться. Словно напоследок.
– Я, Ань, представь, до сорока вообще о старости и одиночестве не думал. Тебе этого тоже ещё не понять. А чего об этом думать, когда здоровья немерено, силушка в руках, хмель в голове и лаве на кармане? Любую проблему решить или тему закрыть – как по щелчку пальцев, на раз-два. Любую бабу уговорить – вообще не вопрос. В крайнем случае, если кочевряжится, динамо крутит – просто ценник удвоить. Привязанность, нежные чувства, любовь? Вообще – не мой случай. Смешно мне было, когда об этом речь заходила. Жил без оглядки. В кайф. Думал про себя – вот потом, к пятидесяти, остепенюсь. Заведу себе какую-нибудь. Одну, постоянную. Или куплю, в крайнем случае.
– Купил?
– Нет. Считай, в лотерею выиграл. Джекпот сорвал. В сорок два с одной девчонкой познакомился. На море. Банальщина. Роман курортный. В первый же вечер вместе в койке оказались. Казалось, ничего особенного. Просто эпизод. Приключение на одну ночь. Только не простой девчонка оказалась. Словно приворожила. От страсти голову снесло напрочь. Ни днем, ни ночью не расставались. И всё казалось мало. А когда пришла пора в город возвращаться – понял, не смогу дальше без неё. Раньше-то, как у меня всегда бывало: какой бы барышня сладкой ни была, на второй день близкого знакомства общение начинало тяготить. А уж если баба по твоей квартире полуодетая ходит, обживается, на кухне хозяйничает и рядом трется – вовсе вилы и тоска. А здесь – совсем наоборот. Радостно на сердце. Легко. Надышаться не могу.
– А она?
– А что она? Я, когда в город вернулись, к ней домой в гости с тортиком и шампанским наведался. Чтобы у мамаши её – девчонка, как и ты, без отца росла – руки дочери, как полагается, просить. Будущая тёща, едва на десяток лет старше меня, естественно – ни в какую. Вот тогда моя девчонка и говорит: «Хорошо, мама, значит тебя на свою свадьбу я не приглашаю». Куда уж против такой?!
Сама всё что нужно организовала. Я только деньги на церемонию дал. Да колечки обручальные заказал. Каждое с тремя бриллиантиками. Одинакового плетения колечки. Только одно чуть побольше, а другое – поменьше.
И в загсе она загодя договорилась, чтобы процедуру не тянули, сроки регистрации не откладывали: ей спустя три недели за океан в командировку лететь. Двухмесячная стажировка в Канаде – по тем временам – не шутка. У неё, оказалось, всё давно, еще до морского отдыха, с заокеанской стороной договорено и согласовано было. Отказываться грех. Полечу, говорит. Только хочу в Канаду уже не невестой, а мужниной женой отправиться. Чтобы никуда от меня не делся. Говорит и ластится, как кошка. Только не домашняя, а дикая. Та, что при случае вмиг острые коготки выпустит и вопьется без жалости туда, где побольнее. Разве от такой убежишь? Да и не хотелось мне этого вовсе. «Куда я от тебя теперь, – шепчу. – Ты только сама возвращайся побыстрее!».
Очень я по ней тосковал эти два месяца. Каждый день на стенку лез. Засыпал и просыпался с ее именем. Тогда только-только компьютеры мало-мальски доступными стали. Я в одной фирме – работал как-то с ними – договорился с директором и ночами напролет в пустом офисе просиживал. Чатился в «болталке» – переписывался с женой через океан. У них как раз вечер начинался. Даже, грех сказать, любовью мы с ней в переписке занимались. Это я потом узнал, что такое «виртом» называют. Одной рукой текст набирал. А другой…Но тебе об этом, наверное, рассказывать не стоит. Хотя вряд ли я тебе что-то новое открою.
– Да уж. Удивил, дядя Боря! Хотя нового, действительно, ничего не открыл. И даже в краску не вогнал. Рассказывай дальше!
– Говорят, курортные романы короткие. А у меня – на десяток лет растянулся. Как один день года пролетели. Девчонка вдвое моложе. Горячая. Страстная. Ребёночка очень хотела. Самый ведь возраст для этого. Четыре года ничего не получалось. Переживала она сильно. По врачам всё бегала. Даже на меня грешила. Просила тоже сходить, провериться. А я-то всё про себя и без врачей знал: и какая из бывших понесла от меня, и какая на аборт отчаялась, так что по этому случаю не особо и заморачивался. Наоборот, считал, хорошо всё складывается, коли так – значит, поживем для себя. Денег поднакопим. В теплые края слетаем. В ту пору как раз все для себя заморские курорты открыли. Если дважды в год под тамошними пальмами на чистом песочке не понежишься – и не человек вовсе. Не статусно!
– А я думала, дядя Боря, ты дальше нашего двора и не бывал нигде.
– Зря думала. Всё было. И ездили, и летали. Помню, очередной раз из Турции домой возвращались. Дело обычное. В уличной лавке, в той, где сами турки ежедневно товар берут, привычно затарились напоследок вялеными маслинами, жареным нутом и гранатовым соусом. Уже в аэропорту, прямо перед отлетом, в беспошлинном я себе – бутылочку восемнадцатилетнего «Чиваса» взял, жене — французскую парфюмерию и косметику, ликер «Бейлис» и джин «Бифитер» – очень она его уважала: добавит в стакан льда на треть, «Швепса» вдвое от джина, ломтик лайма и смакует целый вечер, особенно если надо срочно дело какое обмозговать, – так лучше думается, говорит. И о тёще не забыл, со всем уважением, – кремовый «Шериданс».
Солнце едва зенит перевалило. Лету часа два с половиной. Казалось, к вечеру дома будем: лететь всего ничего. Сели в кресла. Пристегнулись. Двигатели взревели. Кондёры над головой завыли. Водичкой морозной закапали. Впору либо журнальчик полистать от скуки, либо вздремнуть. Только вдруг стихло всё. Стюардессы с приклеенными улыбками по салону к кабине заторопились. Потом вышли и с теми же фальшивыми улыбками объявляют: сейчас каждому пассажиру раздадут судки с положенным обедом, а потом надо организованно, без спешки, высадиться из самолёта и ненадолго вернуться в зону ожидания – огороженный стеклянными стенами загончик. Получили судки. Высадились. Сидим в загончике. Едим. Наблюдаем кипящую жизнь за стеклянной стенкой. А сами туда выйти не можем. Мы ведь контроль выездной прошли, посадочные талоны предъявили, а стало быть, вроде уже и не на турецкой территории. Время бежит, а посадку не объявляют. И главное поинтересоваться, что происходит, не у кого. Стемнело. Аэропорт опустел. Даже яркие лампы там, за стеклом, потухли. Сонный турецкий погранец на вахте от вопросов нос воротит, а свои того же носа и вовсе не кажут. Хорошо, хоть в закутке кулер с водой и прочие санитарные удобства имелись. Кое-кто из сидельцев уже яркие коробки из «дьюти-фри» распаковывать начал. Разложились хозяйственно, группками, на чемоданах. Кто на троих, кто на компашку побольше. По бумажным кофейным стаканчикам содержимое брендовых бутылок разлили. Закусили рахат-лукумом и оливками. За жизнь громкие разговоры завели. А где-то часа через три стюардессы из нашего экипажа объявились. Безалкоголку импортную в жестянках привезли и сэндвичи в бумажных пакетах. Объяснили, что ещё часа три подождать придётся. Что-то там с двигателем случилось. А аэропорт транзитный. Своей ремонтной базы, объясняют, нет, а значит обслужить наш чартер без сторонней помощи не в состоянии. Поэтому необходимые для ремонта детали уже отправлены другим бортом авиакомпании. А борт на подлете.
– А потом?
– Потом, за полночь, когда уже все запасы спиртного подошли к концу и даже самые буйные пассажиры угомонились, понемногу успокоились, расположились на лавках коротать ночь, в закутке объявился экипаж нашего борта. В полном составе. Так мол и так, говорят, двигатель отремонтировали и взлететь готовы, однако насильно никого на борт не зовут. Если кто желание и возможность такую имеет, может утром приобрести билет другой компании. Дело, конечно, для пассажиров хлопотное и недешёвое, но неволить никого не будут. Каждый сам для себя решить должен: желает сейчас лететь или нет. Крепко выпившие и не проспавшиеся пассажиры немного побузили, пошумели бестолково гуртом, дескать, чего ждать, когда везде, даже в авиации, обычный бардак, что надо непременно куда-нибудь звонить, жаловаться и немедленно требовать компенсации, а в конце вполне резонно поинтересовались, может ли дать командир гарантии безопасности полёта. Пилоты переглянулись между собой. Взглянули на бортинженера. Тот утвердительно кивнул головой. Командир вздохнул и утер несвежим платком лоб под форменной фуражкой: «Я тоже человек и тоже опасаюсь. Но одно сказать могу уверенно: у всех нас семьи, – он обернулся к экипажу. – И все мы очень хотим к ним вернуться».
– Да уж! Дилемма! Попробуй выбери, как правильно…
– Нет, если бы я тогда полный расклад знал – вот это был бы вопрос! А так – не было у нас никакого особого выбора. Сама посуди. Карточек кредитных с собой мы не брали – они тогда ещё в диковинку были. Наличку потратили, на обратный путь не оставляли. Кэша в карманах – кот наплакал. Мелочь. Едва на один билет. О втором и речи нет. Переглянулись мы с женой и решили лететь. Я, вообще, полеты не особо хорошо переношу. Даже если подобных вводных не имеется. Благо дело, всегда алкоголь спасал. Тогда ведь в чартерах не только кормили, но и поили. А в этот раз – особо. Едва расселись – опять судки с едой принесли. И стюард между рядами ходит – горячительное предлагает. Водку или вино на выбор. К водке – томатный сок. А к белому вину – конфетку. Наливает, не как обычно, треть пластикового стаканчика, а не скупясь. От души. Стаканчик передо мной поставил. Даже не спрашивает, что буду, водку наливает. Только поглядывает, когда я покажу, что достаточно. Я говорю – до краёв наливай. И второй сразу. Тоже до краёв. Не от жадности. А потому, что реально страшно. А сока – полстаканчика достаточно. Жена неожиданно попросила лишь вина. Чуть-чуть. На донышке. Бледная, гляжу, какая-то необычная. А на лбу пот мелким бисером выступает. И за грудь держится: то ли дышать тяжело, то ли тошнота к горлу поднимается. Что волнуется, как и все, – понятно. Но, вспоминаю вдруг — ведь она не только сейчас, всю неделю алкоголя избегала. Излюбленный джин – ни разу в баре не заказывала. Мимо мартини равнодушно проходила. Ну, разве, бокал светлого пива или полбокала хорошего белого вина. Да и то – пригубит и отставит. И меня почему-то сторонилась. Казалось бы, чего ещё желать на отдыхе для романтического времяпровождения: уютный номер, широкая кровать, бокал с вином, в котором отражается колеблющееся пламя свечей, плеск волн за открытой дверью на террасу. Для того ведь и ехали. А она мою руку в сторону отводит. Не зло. Мягко. Извиняясь взглядом. Вроде как виновата. Я тогда не настаивал. Мало ли, почему так. А теперь вспомнил. Правда, вспомнить-то, вспомнил. Но значения особого не придал. Потому, что выпил уже…
Продолжение следует…