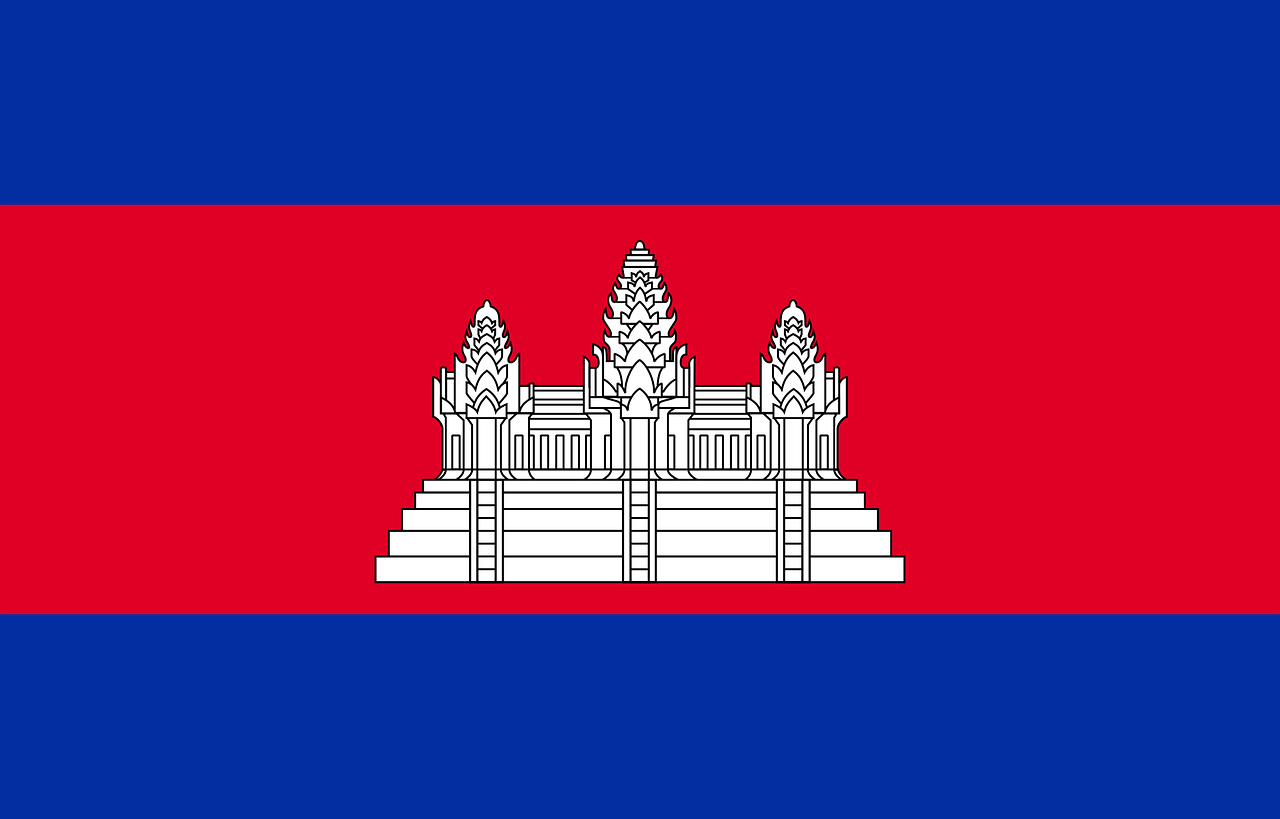В деревне всегда много родственников, и если даже родства уже не вспомнить, фамилии у многих одинаковые. В Каблукове в большинстве были Канаевы, Можаевы и Грачёвы. Молоко мы брали у Канаевых, мёд приносила старуха Грачёва. А наша хозяйка была Можаева.
Звали её Ольга Ивановна. И она была удивительная! Невысокая, неширокая, в длинной юбке, шерстяной кофте, в фартуке с нагрудником и всегда в тёплом платке. Лицо загорелое и морщинистое. Зубов, видимо, нет совсем. А глаза смешливые. Всегда улыбка на лице. А жизнь-то досталась ей трудная. Но это же не повод не улыбаться, правда? Впрочем, всплакнуть она тоже любила, и тут поражал контраст и скорость перемен: только что улыбалась, светилась глазами, и вдруг подбородок вздрагивал, а глаза заволакивало слезами. А ещё через минуту слёзы высыхали, а улыбка опять расплывалась по лицу. Даже предположить не могу сейчас, сколько Ольге Ивановне было лет, но немало. Вдовела давно. Четырёх дочерей родила, а сына ни одного.
Старшей дочери Нины к тому времени уже на свете не было. Были Лида, Тамара и младшая — Надя. От Нины осталась дочка, жившая с семьёй на Сахалине, а потому называвшаяся Тамарка-Сахалинка, чтобы не путать с тёткой. Я её и не видела никогда, но имя её звучало как стихи, а потому запомнилось. Остальные дочери приезжали часто. Все жили не далеко: Надя во Фрязине, Тамара в Щёлкове, а Лида рядом в совхозе Литвиново. (В этот момент отчётливо пахнуло свиным навозцем))
Из всех наличных дочерей муж был только у Лиды. Митя был родом с Кубани, мужик работящий, но горький пьяница. Ясно, что вещи эти плохо совмещаются, поэтому будем считать, что было у Мити две ипостаси — то Хозяин, то Пьяница. Будучи хозяином Митя всё время что-то строил, улучшал, заводил зверьё — то кроликов, то поросёнка (это называлось «откармливать кабанчика»), без конца варил поросёнку какое-то варево и косил траву для растущего стада кроликов. Когда же Митя был пьяницей, то и пьяницей он был отменным: пил много, ругался громко, особенно с тёщей, жену поколачивал. (Лида, впрочем, тоже ругалась неплохо и всегда давала субтильному мужу сдачи). Ипостаси сменялись часто — как день и ночь, но не всегда на одной и той же планете. Была у Мити ругательная присказка «ёкарный козырёк».
Он и трезвый-то слова не мог сказать без этого козырька. А когда был пьяный, то только и слышалось: «Э-э-э-э! Ёкарный козырёк!»
У Лиды с Митей было двое сыновей — Сашка и Колька. Сашка, старший — оторви да брось, пил, гулял, сидел за пьяную драку с поножовщиной. На гитаре играл, пел: «…остался у меня на память от тебя портрет, твой портрет работы Пабло Пикассо…», слыл дамским угодником, девки за ним сами бегали и чуть не дрались. Он же их не баловал. В жиличку Верку, кажется, ненадолго влюбился. Но вскоре бросил, как бросал и других своих подружек. Вроде, и дети у него подрастали — может, трое, может, четверо — все от разных жён.
И родители, и бабка Сашку побаивались, но слова поперёк сказать не могли, опасаясь дикого его нрава.
А Колька был мамина радость, бабкино утешение. Здоровый, крепкий, исполнительный. Плечи широченные, волосы до плеч. И всегда за работой. Голоса его не помню, потому что молчал больше, зато помню как он красиво рубил дрова. Я совсем маленькая была, а красоту этой работы понимала.
Заготовка дров тогда занимала чуть не целое лето. Сначала надо было купить сколько-то кубометров дров в леспромхозе, да желательно подешевле — денег-то одна пенсия 12 рублей. На дрова копили. Сговориться с начальником, чтоб побольше берёзы, поменьше сосны. «Сосна сгорает быстро, а тепла от неё мало», — объясняла мне Ольга Ивановна. Про машину договориться. Погрузка-разгрузка, естественно, своими силами — большая экономия! Внуки для того и выросли, чтоб бабке помогать. В основном, Колька, конечно. И Мишка у Кольки на подхвате.
Мишка — сын старшей из оставшихся дочерей, Тамары — жил с матерью в Щёлкове, но всё лето проводил у бабки в деревне. Он был меня всего года на три старше. Тихий был, работящий, всё всегда делал, что бабка просила, да и сверх того тоже. Вот они с Колькой дрова грузили-разгружали.
Не помню, сколько кубометров Ольга Ивановна покупала, но куча брёвен перед домом была большая. Лазить по этой куче было большим детским удовольствием, а по вечерам брёвна оккупировали подростки с гитарой.
Днём во двор выносились старенькие дощатые козлы, и Колька с Мишкой пилили брёвна большой двуручной пилой. Это, кстати, только выглядело лёгким делом, а на самом деле без сноровки было трудно. Я пробовала.
Куча брёвен постепенно уменьшалась, рядом росла гора чурбаков. Весь двор был устелен белыми душистыми опилками.
Потом начиналась собственно колка дров. Сначала чурбак ставился торцом на большую колоду и распускался надвое с помощью колуна.
Колун отличается от простого топора примерно как кувалда от обычного молотка, или как бультерьер от чихуашки. Он некрасивый, грубый, тяжёлый. Чтобы раскроить толстый чурбак, часто приходилось переворачивать его и стучать по колоде обухом колуна с насаженным на него чурбаком. Работа очень тяжёлая и очень красивая. Но любоваться можно только издали — техника безопасности — может в лоб прилететь.
С колуном только Колька мог управиться — сила позволяла. Половинки чурбака уже обычным топором раскалывали на аккуратные полешки. Тут и Мишка Кольке помогал. Когда полешек скапливалось много, их перетаскивали в крытый двор и укладывали в поленницу на окончательную просушку и хранение. Тут уж все помогали, и мне разрешалось помогать тоже. Поленницу складывать тоже с умом надо — чтоб была высокой, но устойчивой, плотной, но не слишком, чтоб воздухом продувалась всё же.
А внучка рядом с бабушкой была всего одна, старшая-то внучка на Сахалине. Внучка Наташка, дочь младшей дочери, моя почти ровесница, на год старше всего.
Надя была самой младшей и самой любимой дочкой Ольги Ивановны. На фоне мрачноватой Тамары и грубоватой Лиды, Надя была ясным солнышком. И умная, и добрая, и весёлая. Самая образованная из всех дочерей — окончила медучилище и работала фармацевтом во фрязинской аптеке.
И именно на Наде судьба оттопталась с особым цинизмом. Ещё подростком Надя заболела. Простуда, сопли, гайморит. Пока ничего страшного, как у всех. Фронтит. Тоже бывал у многих. Но инфекция распространялась. Начался сфеноидит. Это без гугла не многие знают. И это фактически приговор. Если гной попал в решётки основной кости (Os Sphenoidale), его оттуда почти невозможно удалить навсегда. К тому же, это прямо в геометрическом центре человечьей головы, между глаз, в глубине, чуть впереди гипофиза. Отныне Наде предстояли ежегодные (а иногда и чаще) тяжёлые операции, а в дополнение — постоянные головные боли и изуродованное лицо. Глаза у Нади стали глядеть в разные стороны, вокруг носа и на лбу образовались глубокие расщелины. Смотреть на её лицо было страшно.
При этом судьба одарила её лёгким характером: у неё из развороченного черепа гной сочится, глаза почти не видят, а она смеётся, жизни радуется.
Дочку вот родила и вырастила. Наташке, правда, тоже не везло, но по-другому. Выросла тихо, незаметно, замуж вышла в восемнадцать лет, родила, и тут же — в девятнадцать — овдовела. Муж её на мотоцикле разбился. В двух километрах от дома.
Дочку потом всей большой семьёй воспитывали. Всё лето — у прабабки в Каблукове.
У меня к тому времени уже подрастали любимые племянники, и разницу между городским и деревенским воспитанием я видела отчётливо. Нежных городских детей спрашивают: «Как собачка говорит? Как киска говорит?» Они отвечают: «Гав-гав или мяу».
Суровых деревенских детей спрашивают: «Как жопа пердит?» И прелестное дитя исторгает из нежных губ громкий неприличный звук, а родня хохочет. Это был один из любимых семейных приколов.
К тому же налить восьмимесячному дитяти кислых щей с чёрным хлебом — нормальная практика, и ест ребёнок с аппетитом, и живот у него не болит. А у нас — суп-пюре и тёртое яблочко, и каша, куда ж без неё.
Свадьбы деревенские тоже от городских отличались.
Я на каблуковскую свадьбу впервые попала, учась уже в институте. Родителей моих всегда на эти свадьбы звали, как почётных московских гостей, да и уважаемых людей. Мама всегда же всех лечила. Но я на такое действо попала тогда впервые. Наверное, это Наташкина свадьба и была. Кажется, поздней осенью дело происходило. Во всяком случае, не в дачный сезон. И холодно, вроде, было, но снега точно не было, значит, не весной. Сначала народные игры с выкупом невесты, всякими рушниками да вениками, потом, конечно, застолье.
Всё лишнее вынесено из избы, и всё пространство занято бесконечными столами, и набито десятками пьяных людей. Водка стоит на нашей терраске, чтоб доступ к ней был ограничен — на нашу терраску даже зимой никто кроме хозяйки не заходит, там сложены наши летние вещи. Водки много — не меньше четырёх ящиков. А в каждом — по двадцать бутылок.
Когда водки становится заметно меньше, а народ становится заметно веселее, действо перемещается во двор. Во дворе пляшут и поют частушки. С каждым кругом плясуны хлопают и топают громче, а частушки делаются всё забористей. Наконец, мата становится больше, чем приличных слов. Но это всё ещё до драк и упившихся тел по углам. А драки будут, и тела тоже будут.
Мне становится совершенно понятно, отчего меня раньше не брали на деревенские свадьбы.
Молоко мы берём у Канаевых. Они живут через дом от нас. Варвара Ивановна и Иван Иванович. Добрые славные люди. Люди, любящие животных, — всегда добрые.
Корову у них зовут Дочкой, а дочку — Диной. У Дины — больное сердце, и мама, встречая Варвару Ивановну, всегда спрашивает: «Как дочка?»
— Ничего, доится хорошо, — отвечает Варвара Ивановна.
Все смеются.
У них много животных — корова, овцы, куры. И, конечно, собаки. У большинства каблуковских жителей собаки большие и страшные, их держат на цепи и в конуре. А у Канаевых Муха — маленькая коротконогая жёлтая собачка. Иван Иваныч в Мухе души не чает.
Живёт Муха с людьми в горнице, и спала бы, наверное, с хозяином, но он предпочитает спать на печке, для Мухи слишком высоко. Кормят Муху тоже не так как уличных псов. Тем-то плеснут пару раз в день «супу» — объедков, залитых кипятком. У них и миска чаще всего сделана из большой селёдочной консервной банки. А Муха ест из собственной чашки и отлично знает слово «мясо». Иван Иваныч любит показывать фокус: если Мухи рядом не видно, то он шёпотом говорит «мясо», и Муха тотчас же прибегает на своих коротких ножках. Однажды у Мухи родился щен. Иван Иваныч и подумать не мог о том, чтобы отобрать дитя у своей любимицы. Тузик остался в доме. Внешне похож на Муху — до шерстинки, до пятнышка, только немного крупнее и, кажется, глупее.
Канаевы все — работящие. Иначе с таким хозяйством не справиться. Иван Иваныч целый день на улице: сад, огород, усадьба с картошкой, сено для овец и коровы на зиму накосить, насушить, собрать, выгнать овец на выпас, Дочку привязать к колышку там, где трава самая сочная. Муха, а потом и Тузик, всегда с хозяином — охраняют. А он с ними разговаривает.
Овцы глупые, глаз да глаз за ними. Однажды пришли в гости — увязавшись за нашей вовремя не подстриженной пуделицей Бешей, приняли её за свою. Она от них, а они за ней. Пришлось вести их в загон. Это не трудно: идешь впереди и зовёшь «кать-кать-кать», они послушно идут за тобой. Овцы жили в ограде соседнего с Канаевыми дома. Дом давно сгорел, наследники не объявились, вот овцы там и жили на ничейной территории.
Варвара Ивановна из дома почти не выходит — только вечерком посидеть на лавочке. У неё дома дел много. Дом у них большой, высокий. Классическая изба — с сенями, горницей и крытым двором. Во дворе стойло для Дочки, сеновал и дровяник. И уборная тоже там, под крышей. В прохладных сенях вдоль окна длинная скамейка. На ней вёдра, накрытые марлей. Вкусно пахнет молоком.
В выходные из города приезжает Дина с мужем Володей и сыном Валеркой. Володя тоже целый день по хозяйству — тестю помогает. Валерка — всю семью возит на мотоцикле, мать в коляске, отца верхом.
Дине к работе и притронуться не дают — берегут её больное сердце.
Я к ним каждый вечер хожу с бидоном. Молока берём много — два–три литра. У нас все его любят. Ставишь банку в холодильник (крохотный Саратов, взрослому человеку по пояс) — утром под крышкой слой сливок в пять сантиметров.
Володя учит меня косить, а потом ворошить граблями душистую траву. Варвара Ивановна учит доить корову. Дочка оглядывается на хозяйку, и терпит мои неуверенные прикосновения. Не то чтобы мне нужны были все эти умения, но это же так приятно — уметь.
Топ летних ощущений:
Лежать на траве и рассматривать букашек
Ехать на велике по твёрдой гладкой тропинке
Ходить босиком по глубокому слою мелкой дорожной пыли
Ходить босиком по глубокой луже, дно которой заросло травой
Ловить в траве маленьких лягушат, чтоб случайно не наступить на них, потому что если раздавить лягушку, обязательно пойдёт дождь
Купаться же, купаться!