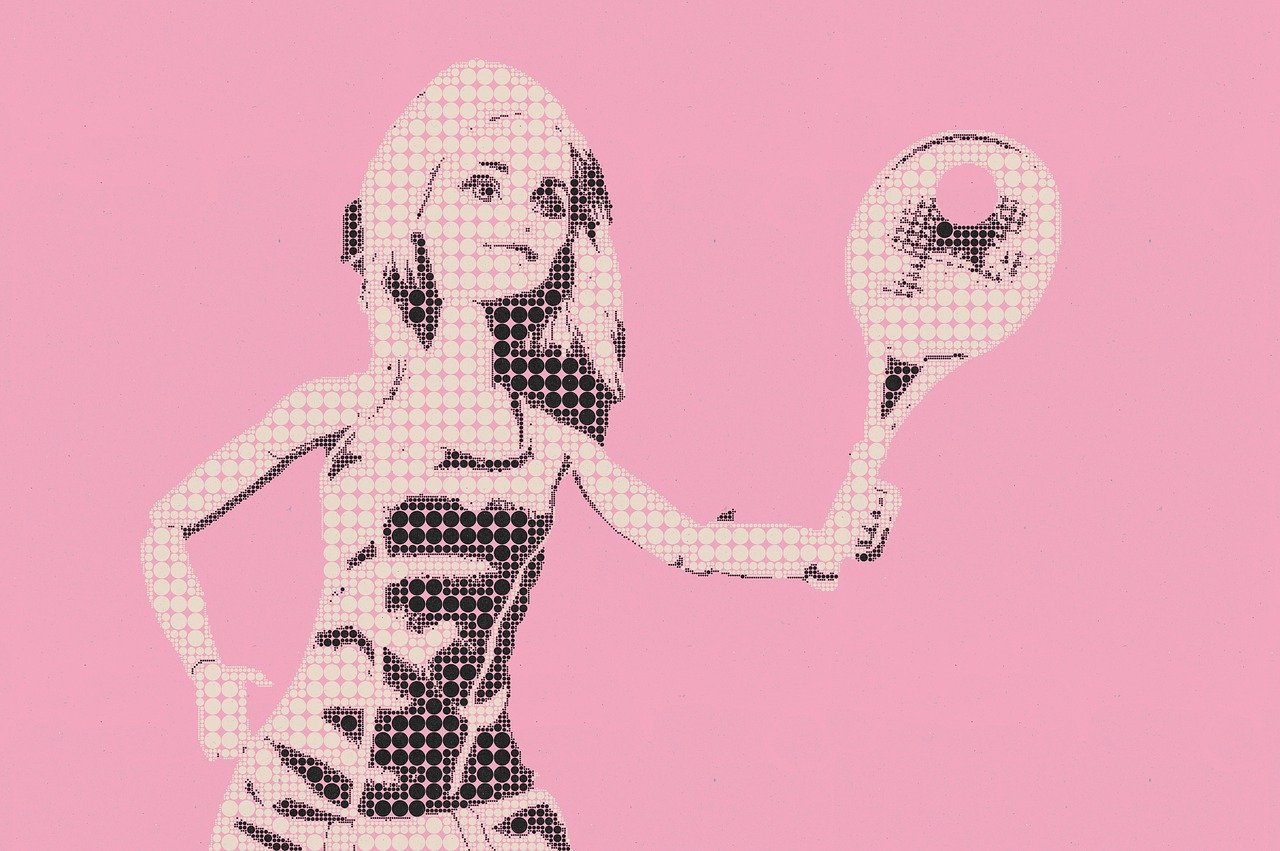Липы на бульваре были такие огромные, такой необъятной толщины, что в детстве только втроём – мама, папа и Сима, взявшись за руки, могли их обхватить. Потом, когда на душе было особенно тоскливо, Сима выбирала самое толстое дерево, как правило, оно тоже непременно оказывалось липой и, приникая к нему, ждала, что вот-вот её руки, как в детстве, сомкнутся с мамиными и папиными и морок рассеется. Но и самое толстое было у неё в полобхвата. Видимо родители, старавшиеся всё делать сообща, нарочно сгибали руки, чтобы вовлечь маленькую Симочку в общесемейное дело.
Вечерами они часто гуляли все вместе, даже зимой, когда мама приходила со своей ненормированной работы сильно затемно. Одевались с шумными поисками валенок, капора и задвинутых куда-то санок. И мама, и отец были рады вырваться из тесной комнатёнки, из-под неусыпного контроля бабушки, маминой мамы, до сих пор считающей мамин брак мезальянсом. Бабушка была из «бывших», хотя и прошла жёсткую дрессуру советского строя.
Поход на бульвар уже сам по себе был праздником. Освещённый неверным светом редких фонарей, смущённо пробивающимся через медленно кружащийся снег, он притягивал гуляющих. Прихотливо выгнутые деревянные скамейки постоянно приходилось очищать от падающего снега, было холодно, и только мальчишки отваживались присесть на них на мгновение. Переобувшись, они перебрасывали через плечо связанные шнурками ботинки, и, радостно вскрикивая, носились, расталкивая прохожих, по утоптанной серединке бульвара. Малышей возили на санках по обочинам между деревьями. Отец, старающийся воспитать в Симочке мужество и отвагу, заставлял её кататься, стоя на сиденье. Симочка заранее начинала плакать, поскольку каждый раз она соскальзывала и пребольно стукалась о дерево, а то и о глыбы слежавшихся сугробов. Папа, видя Симино малодушие, начинал сердиться, а на защищающую её маму – кричать, что она растит морального урода, убегающего от трудностей. «Как она дальше то жить будет?» – бушевал папа, прошедший войну. В конце концов, ребёнка общими усилиями ставили на санки и постоянно стремящаяся к компромиссам мама, бежала рядом, держа Симочку за ручку. Но в какой-то момент, перед мамой оказывалось дерево, она отпускала Симу и та тут же валилась навзничь, – ослабевшие от ужаса ноги, уже не могли удержать её на скользкой поверхности. Заранее оглушая прохожих громким рёвом, она обрушивалась на землю. Отец, не обращая внимания на осуждающие взгляды сердобольных старух, поднимал Симочку, отряхивал толстой меховой перчаткой и, не глядя на суетящуюся мать, опять ставил на санки. Глаза отца были при этом колючими и на щеках играли желваки.
«Папа очень хотел сына», – шептала мать, прикладывая к шишкам холодные примочки.
Поставила в воспитательном процессе жирную точку бабушка. Увидев рассечённую бровь, которую уже невозможно было скрыть, бабушка пришла в такое негодование, что совместные прогулки как-то само собой сошли на нет.
Другие способы воспитания были отцу недоступны, и постепенно он стал терять к Симочке интерес, а заодно и к маме. Дома сделалось неуютно, а потом и совсем плохо. Симочка отчего-то чувствовала себя виноватой. При виде отца она втягивала голову в плечи и старалась вести себя на принадлежащих ей двух метрах жилой площади как можно незаметней. Зато на улице она распрямлялась, и спасу от неё дворовым детям не было.
Ей казалось, что чем скорее она научится не бояться и терпеть, тем скорее отец её простит, и в доме станет опять тепло и весело. Но оказалось, что не так просто перебороть даже не страх, а ощущение ускользающей из-под ног почвы, когда окружающий мир начинал с угрожающим гулом вращаться вокруг Симочки. В голове делалось пусто, возникала дурнота, тянуло грохнуться в обморок. Видно от частых ударов что-то там повредилось, понимала Симочка и с ещё большим азартом лезла на крышу сарайки, чтобы сигануть в сугроб.
Но тут «отец увлёкся другой женщиной», – шептала горестно бабушка, забывая о своём же определении маминого брака. Мама томилась в опустевшей комнате, как подбитая птица, не реагируя на близких. А ещё через год родители окончательно развелись, поскольку отцу та, другая, родила долгожданного сына. Симочка поняла, что всё, ей не выдержать конкуренции и как-то странно успокоилась. У неё будто замерзло всё внутри. К болям в голове присоединились боли в сердце и придворная врач, Нина Ивановна, которую бабушка выслушивала с молитвенно сложенными на груди руками, объяснила, что внутренние органы не успевают за стремительным ростом тела, и уложила Симочку в постель. Там, в покое они должны были обрести долгожданное соответствие. Тут учудила мама, решив выйти замуж за своего аспиранта с жилплощадью, и они остались с бабушкой одни. Теперь Симочка была владелицей целых семи метров, но это её совсем не радовало. Бабушка вернулась на свою старую работу и комната окончательно опустела.
Жили они на первом этаже. Маленький палисадничек серел голой землей, поскольку стоящая под окном огромная липа, давно переросшая их двухэтажный дом, не позволяла солнцу попадать ни в комнату, где даже днём приходилось зажигать свет, ни на крохотный клочок «их» земли, где бабушка чего только не пыталась вырастить. Но из земли усердно вылезали только шампиньоны и коричневые зонтики, всё остальное гибло. Как будто липа высасывала из земли не только её плодородную силу, но и саму идею плодородия. Зато, когда липа цвела, к ней слетались все окрестные пчёлы, осы, шмели, стремящиеся принять участие в этом пиру. Этот сладковатый запах цветущего дерева преследовал потом Симу всю дальнейшую жизнь. Во дворе их было несколько, этих огромных вековух, с подгнившими трухлявыми дуплами, которыми брезговали даже птицы. Каждый год мало-мальски серьёзная гроза уносила жизнь одного дерева и тогда рухнувший исполин придавал новую прелесть двору, позволяя прятаться, а то и просто сидеть в увядающей кроне, пока нерасторопное домоуправление не присылало старого дворника-татарина с двуручной пилой, бережно обёрнутой древним прорезиненным плащом. Старшие мальчики сбегались из соседних домов в надежде, что старик выберет именно их в напарники. А потом по всему двору катались душистые кругляши и младшие девочки играли на них в дочки-матери, мальчишки резались в карты, а старухи подтаскивали к подъездам, радуясь, что не надо тащить из дома стулья и табуретки. А к концу лета всё куда-то девалось, и про липы забывали до следующей весенней грозы.
А когда у Симочки выпускной вечер выплеснулся на Красную площадь, её парень, как потом оказалось, единственная в её жизни любовь, вдруг вынырнул из огромной толпы и, дотянувшись до неё веткой цветущей липы, радостно засмеялся. Такой привычный и любимый запах, и она взрослая, и рассвет над Москвой-рекой, и на белом платье пятна от травы и туфли, мокрые от росы, и она, пьяная от счастья и нежности, готова обнять весь мир… Безумствуют липы, они стоят золотыми душистыми шарами, как огромные букеты в честь её, Симочкиного праздника.
Но праздники заканчиваются, и взрослая жизнь неумолимо начинает затягивать её в свои сети. Липы же во дворе к тому времени все спилили, двор заасфальтировали, в доме стало светлее. Они жили с опомнившейся мамой вдвоём, где и раньше, но занимали теперь две комнаты. Сима, поступив в институт, полюбила походы, где можно было вести себя свободно, без оглядки на окружающих. Она пила водку и самогон наравне с ребятами, таскала тяжёлые рюкзаки, первой старалась перебраться через опасную речку, мужчин выбирала осторожно, но если считала, что тот её достоин, приближала к себе, ни перед чем не останавливаясь. Серафима, так она теперь себя называла, единственная из выпуска женщина, довольно быстро сделала блестящую карьеру.
Нежная чувствительная мама горестно смотрела на неё в те короткие моменты, когда Серафима бывала дома и, опасаясь говорить вслух, чтобы не вызвать недовольства, думала, что её девочке уже за сорок, личная жизнь не сложилась, здоровья никакого, постоянно болит голова и мучают странные приступы гнева. В комнате разбросаны рюкзаки, палатки, унты, спальники. Всё куда-то спешит, с матерью почти не разговаривает, отца знать не хочет. У того тоже жизнь не сложилась, живёт один, болеет. Он всё выспрашивает про Симу, мечтает её увидеть. Хотел вернуться, да Сима слышать про отца ничего не желает, хотя мать и чувствует, что он ей далеко не безразличен.
Но увидеться всё же пришлось. Когда Сима была в очередной экспедиции, ей пришла телеграмма, что отец тяжело болен и очень её ждет.
Сима, прочитав, в ярости разорвала хлипкий листочек. Уезжать было никак нельзя. Должно было придти оборудование, да и люди в этот раз попались ненадёжные, но потом, словно в беспамятстве, спешно кинула в сумку необходимое и проплакала всю дорогу до ближайшего аэродрома. Экспедиционный шофёр, перепуганный невиданным зрелищем, гнал машину, стараясь успеть к отлёту кукурузника, предоставленного им аэродромным начальством для экстренных нужд.
Успела вовремя. Сжав протянутую бесплотную уже руку, Сима наклонилась к отцу, чтобы расслышать самые важные слова, которыми он напутствует её, Серафиму, с которыми она сможет продолжать жить, и будет вспоминать, как самые главные в своей жизни.
Она вышла из палаты, отодвинула кинувшуюся к ней мать, и сгорбившись побрела по коридору.
Отец говорил, что очень её любит, что был без памяти рад, когда родилась, она, девочка. Как он был счастлив, глядя на её расцветающую женственность, как гордился, но жизнь их развела, о чём он страшно сожалеет. Отец засмеялся и сказал, что когда был поздоровее, часто прогуливался по бульвару, считал шишки на деревьях, которые она, Сима, в детстве на них понаставила. И просил сходить взглянуть на липы, свидетели того времени, когда они так счастливы были вместе.
Старых деревьев осталось очень мало. Под напором всё увеличивающегося потока машин, даже терпеливые липы сдались, начали засыхать. Сима шла, прикасаясь к стволам, трогала ровные бороздки, вспоминая, как в институте им объясняли, что у липы кора, будто процарапана кошачьей лапой. Она ощупывала корявые наросты, как раз на уровне её тогдашней головы, и радовалась встрече со старыми знакомыми. Сима тянулась к гладким, как будто отлакированным молодым деревцам, гладила их робкие ветки, и с нежностью думая об отце, чувствовала, что он выкарабкается, и они ещё будут вдвоём или нет, втроём, гулять по бульвару, пытаясь наговориться за все те годы, которые провели в разлуке.