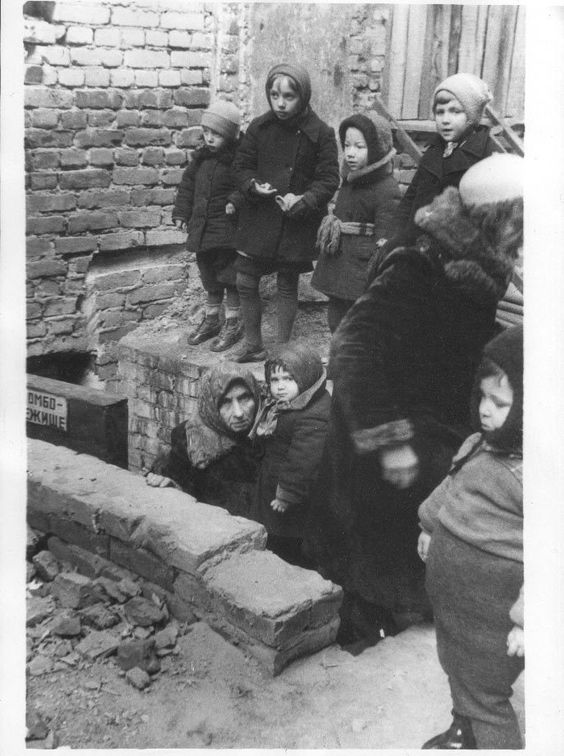Москва,
Силикатный округ, ЦПК-7.
Чрезвычайный трибунал под председательством генерала Золотой Категории Спиридоновой Е.А. рассмотрел дело с/к Цаплина Е.Е. и установил, что действия, мысли и высказывания Цаплина Е.Е. носят открыто вражеский характер и направлены на подрыв государственного строя, православного уклада и морально-культурных устоев общества.
Цаплин Е.Е. реабилитации не подлежит.
Приговорить Цаплина Е.Е. к смертной казни Волей Народа.
Приговор привести в исполнение завтра 7го августа, в пятницу сего года. Место исполнения — Таганская арена ЦО г. Москвы. Ответственный — экзекутор Второго ранга хорунжий Дудь Ф.К.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
1
Речь Спиридоновой заняла минуты три. Цаплин выслушал приговор с рассеянной улыбкой, если честно, то он даже не слушал, он подбирал рифму к слову «чаще». Хотелось вот так, но так уже было написано до него:
Впрочем, чаще
нагая преследует четвероногое
красное дерево в спальной чаще.
Рифма должна состоять из двух элементов: ожидаемого и внезапного. Цаплин искал неожиданную рифму, чтоб слово удивило, ошарашило, обожгло. Дело даже не в самом слове, а в комбинации фразы, в конфликте смыслов. В конфликте звуков. Ведь, если вдуматься, то суть искусства именно в создании критического напряжения. Великая красота возникает лишь при нарушении пропорций.
Чуткой, жуткой, странной дрожью проникал меня всего.
Охранник громыхнул засовом, вывел Цаплина из клетки. У охранника была смешная фамилия — Дудь и Цаплин придумал несколько потешных частушек — да и как тут удержаться, когда само рифмуется: и не забудь, и блуд, и мудь, и даже если исхитриться, то можно зарифмовать «и кто-нибудь». Тот факт, что Дудь был не простым охранником, а экзекутором второго ранга, поэта не занимал, Цаплин политикой не интересовался, радио не слушал, на марши не ходил. Цаплин сочинял стихи.
Родился ты. И помни вечно, что мы песчинка, капля, жмых.
Что доброта не бесконечна, и если будешь жить беспечно,
Начинкой станешь чебуречной, горшком в приюте для дурных.
Дудь пристегнул цепь к ошейнику, толкнул Цаплина в спину. В зал уже вводили, точнее, вносили, следующего обвиняемого. На военных носилках лежала женщина с лицом мумии. Пахнуло гнилью как от забытой вазы с мёртвыми цветами.
Цаплину тут же пришла в голову первая фраза «Даже смерть не спасёт от возмездия…» Да, это хорошо — даже смерть не спасёт. Но причём тут возмездие?
— Руки! — гаркнул охранник.
Цаплин послушно скрестил руки за спиной. Дудь пнул Цаплина коленом в зад и вытолкнул из зала. Они прошли гулким коридором, низким и тёмным, поднялись по узкой лестнице и вышли на свет.
Каталка экзекутора была на дутиках, слава богу, не на литой резине, Цаплин впрягся, ухватился за оглобли. Охранник плюхнулся в кресло, оглянулся и дёрнул за цепь ошейника.
— Будешь трясти — зубы выбью! Гони, сука! — крикнул весело. — Через Кремлёвку жарь!
Балчуг был немноголюден. Цаплин бежал резво, ловко огибая каталки помедленнее. Охранник иногда дул в свисток, просто так, для забавы. Прохожие на тротуаре, услышав полицейский свисток, тут же останавливались и садились на корточки.
Охранник Дудь в свисток он дуть
Был мастер, а не как-нибудь…
Дорога пошла в гору, на мост. Цаплин сбавил скорость. Тут даже на дутиках не разгонишься.
Щёчка, строчка, два листочка, ушки, ножки, пара глаз,
И волосики-росточки, в сумме составляют нас,
По чуть-чуть от папы с мамой, деда с бабой-тоже чуть,
И от солнышка пожалуй, каждый лучик…
— Правей бери, лишенец! — гаркнул Дудь.
Левая часть моста была разбита. Из развороченного покрытия торчала арматура, гнутые железки, уже совсем рыжие от ржавчины. Из трещин в асфальте росла трава и карликовые берёзки. На той стороне реки голые мальчишки сигали в реку прямо с парапета. Они визжали, плескались и плавали на перегонки. Которые посмелее, пытались вскарабкаться на хвост сгоревшего «мига», что высился над водой посередине реки. Цаплин сам когда-то запросто доплывал до самолёта, но на хвост вскарабкаться удавалось лишь Фоке, по-обезьяньи ловкому, чернявому пацану из параллельного «б». Тогда на отмели ещё водились раки, их запекали в костре, прямо тут, на берегу.
Дудь ткнул рукой в сторону берега.
— Раков ловили! Вон там, — крикнул экзекутор, повернув голову. — В углях их, подлецов, зажаришь, помню. Они краснеют — клешни, усища, хвосты! А панцирь высосать — вот где смак!
Дудь отвернулся и весело выматерился. Звонко хлопнул себя по ляжке. Бритая голова Дудя, розовая и гладкая, напоминало бабье колено. Цаплин неожиданно понял, что они с охранником одного возраста.
— Через Рыбин? — вежливо спросил Цаплин. — Или по Зарядью?
— Дуй через Рыбин! — ответил Дудь.
На Васильевской горке маршировали пионеры. Вожатая, худая и некрасивая тётка, злым голосом выкрикивала начало речёвки, пионеры писклявым хором ей отвечали. Ветер гонял пыль по пустоши, Цаплин помнил, когда тут росли лопухи, прямо тропические джунгли. Из-за радиации лопухи вымахивали под два метра. На лопуховом поле, тут, в Зарядье, происходили настоящие сражения, окрестные мальчишки сходились стенка на стенку, дрались люто, без правил и без жалости. У Цаплина до сих пор остался шрам на левой скуле от кастета.
Порыв ветра обдал песком. Цаплин зажмурился, Дудь закрыл лицо ладонями.
— Мне рассказывала… — охранник повернул голову. — Бабуся мне рассказывала, что тут раньше гостиница стояла — огромная, этажей сто. Там западло жило…
Он замолчал, начал мелко отплёвываться.
— Ну и пылища… — вытер пальцами рот. — Ага — этажей сто. Столовки на каждом этаже. Ханька и хавчик, прикинь, всё западное — финнское, польское! Бабуся говорит, минетки наши туда шастали, за харч и курево сосали у западла.
Цаплин тоже слышал и про гостиницу, и про минеток. Только ему рассказывали, что минетки все были офицерками из УПБ. Вроде там специальный полк был — из минеток. И звали их как-то особо — путанты, что-ли.
— А как мы тут рубились! На Лопуховом поле! — Дудь зычно чихнул, харкнул в сторону.
Брызги попали Цаплину в лицо. Он, продолжая толкать каталку, утёрся локтем. Дорога петляла, убитая высохшая глина казалась от солнца белой. От кремлёвской пади несло тёплой тиной. Страшно хотелось пить, Цаплин облизнул губы, на зубах захрустел песок. Цаплин незаметно сплюнул под ноги. На обочине стояла старуха, увидев полицейского она быстро села на корточки. Дудь лениво дунул в свисток.
— Помню, «солёные» с «хохловцами» объединились против «китайгородцев». Вот сеча была!
Цаплин помнил эту битву. Ух какое было побоище. «Китайгородцы» запросто разгромили бы «солёных», но те позвали «хохловцев». Стояла дикая жара. Середина июля, кажется. Именно тогда железным прутом Бяше раскроили череп. Кляксы густой крови засыхали на зелёных листьях глянцевыми брызгами, будто кто-то разбил банку малинового варенья. Бяша лежал и умирал прямо тут, в лопухах. Фока сорвал рубаху, разодрал её и пытался забинтовать ему голову. Но кровища хлестала точно из шланга, сам Бяша стал серым, цвета сырой глины. Он вдруг выгнул спину и страшно выпучил глаза, будто увидел какую-то жуть.
Фока, голый и грязный, повёл «китайгородцев» в атаку. Мы отомстим, сказал он, теперь у нас развязаны руки. Мы будем драться, будто нас уже убили! Он поднял с земли камень и крикнул: «Бить в висок!» Цаплин камня не нашёл, да он бы всё равно вряд ли смог бы ударить человека камнем в висок.
«Хохловцы» побежали. «Солёных» оттеснили к набережной, они прыгали с парапета в реку. Тех, кто не успел, ловили и били ногами. Фока притащил пленного, из «солёных». Сказал, что мы должны его казнить. За Бяшу. Так будет справедливо.
Пленный, плотный коротышка, рыдал и уверял, что он вообще даже не дрался, что его заставил какой-то Гуня, что «хохловцы» принесли заточки и кастеты, там половина хачей с Птички, они и по-русски-то не понимают — горлохваты голимые. А пацаны с Солянки, мальцы чёткие, ежовые — без несчастья. И всегда бьются по правилам.
Фока раздобыл верёвку и сказал, что пленного нужно повесить. Повесить на мосту. Чтоб все в округе знали. Повесим ночью, а утром все увидят — сказал он.
Сохатый сомневался в прочности верёвки, он подёргал её, пытаясь порвать. После смастерил петлю. Накинул пленному на шею, тот завыл в голос, Сохатый апперкотом свалил мальчишку. Пленный катался по земле, просил пощады, вопил, что сирота, что у бабуси никого кроме него нет. Фока зло и молча начал пинать его. Пленный скулил, после затих. Сохатый сунул конец верёвки Цаплину, тот намотал шнур на руку, крепко зажал в кулаке.
Когда поднялись на мост, солнце уже село. Наступали сумерки, тихие и серые. Над Кремлёвской Падью плыл сизый туман, говорили, там до сих пор страшная радиация и, что вода в кратере вовсе не вода, а серная кислота от которой кожа вздувается волдырями. Цаплин видел такие ожоги на руках у Петрикова со второго этажа, потом этого Петрикова забрали и он больше не появлялся.
Дошли до середины моста. Фока остановился, сказал, будем вешать тут. Кто-то предложил сделать надпись, что мы мстим за Бяшу. Идея всем понравилась, Сохатый добавил: кровью! Мы напишем нашей кровью — прямо тут, на асфальте: «Мы, китайгородцы, мстим за нашего друга Бяшу». Карась сказал, что хорошо бы имя и фамилию указать. Слишком длинно, возразил Сохатый. Начали спорить и обсуждать текст.
— Хорош базланить! — перебил гомон Фока, — давайте кончать суку! Цапа, тащи его сюда!
Все притихли и расступились. Прислонясь спиной к чугунной решётке парапета, стоял Цаплин. Он виновато развёл руками и показал пустые ладони. Пленный исчез.
Фока медленно подошёл, остановился, точно в раздумье. Сунул кулаки в карманы штанов. Цаплин не двигался. Со стороны Замоскворечья долетел вой сирены, глухой и низкий, словно кто-то дул в пустую бутылку. Начинался комендантский час. Фока нащупал в кармане свинчатку, крепко сжал. Свинец был тёплый как живое тело.
Кулака Цаплин даже не увидел. Его голова взорвалась жгучей белой болью, ослепительной и мощной, асфальт выскочил из-под ног, мост подпрыгнул как качели и Цаплин, перелетев через парапет, рухнул в черноту.
2
По Манежу гоняли ментуру, новобранцев из окрестных сёл.
— Гопота, — Дудь зло сплюнул. — Органы засрали. Одна урла идёт!
Горнист трубил отрывистые сигналы — «бегом», «стоять», «кругом», трубил плохо, трель срывалась то на визг, то на писк; казалось, кто-то мучает крупное, но беззащитное животное.
— Строем! — рычал командир. — Строем, мать вашу ёб!
Деревенские строй не держали, делали всё невпопад — толкались, спотыкались и падали, сбивались в кучу. Новобранцы были ещё в цивильном, с белыми нарукавными повязками б/к. Дудь помнил, как его самого гоняли по Манежу, а после гонял он, когда стал сержантом и получил «синьку». Он прослужил в Ж/К пару лет — грязь, бараки, патрульные зачистки; после год отбарабанил в Нижнем, в «фильтрации», на самой границе — вот где адово место — трупы, вонища, вши. Зато после ему подфартило сказочно: комендант Леонович отравился «люлей», а Дудь сходу разоблачил отравителей из местных — одноногую вдову по фамилии Зак и её чокнутую сестру Варю. Сёстры Зак признались в преступлении и чистосердечно раскаялись. Их завербовала польская разведка пять лет назад, они получали яд и инструкции через связного, который работал бакенщиком в деревне Топь.
К сожалению, бакенщик погиб при задержании. Шпион пытался уйти по льду на польскую территорию, но тот декабрь выдался тёплым и Ока на середине так и не замёрзла.
Трибунал проводил сам Дудь, приговор исполнял тоже он, репортаж о казни транслировали громкоговорители по всей округе. Дудь стал местной знаменитостью, его назначили комендантом лагеря, а из Москвы прислали медаль и указ о присвоении ему звания поручика с переводом в Стальную Категорию.
Сам Дудь считал себя фартовым малым.
Тот случай на Москворецком мосту ему казался чуть ли не чудом и прямым доказательством своей исключительности. Разумеется, он никому не рассказывал, что тот пацан его просто отпустил. В своей версии, Дудь порвал все путы, он бился как лев с двумя дюжинами «китайгородцев», уложил в нокаут самого Фоку, а после прыгнул с моста и спасся, проплыв до самой Яузы. В доказательство своих слов Дудь показывал разбитые в кровь кулаки и багровый шрам от петли на шее.
3
Цаплин остановил каталку у главного входа в Белые Казармы. Патрульные вытянулись и отдали честь. Из репродуктора звучала плавная музыка — то ли мандолины, то ли балалайки. Дудь вылез, потянулся, вытер ладонью розовый череп.
— Ну и пылища… — он отстегнул карабин ошейника Цаплина, коротко приказал. — Сидеть!
Цаплин опустился на корточки.
— Волосы убери, — Дудь раскрыл планшет, начал рыться. — Чтоб палью не воняло…
Цаплин послушно кивнул, обеими руками зачесал волосы назад.
Дудь вынул из планшета зажигалку, самоделку из гильзы, несколько раз чиркнул, потряс, зачем-то понюхал, снова чиркнул. Оглянулся, подозвал патрульного.
— Огонь нужен! — он сунул патрульному зажигалку. — Бегом!
Цаплин покорно сидел на корточках. Он старался ни о чём не думать. Он смотрел на плац, бесконечный и пустой, небо тоже было пусто и бесцветно. Серый бетон, серые небеса, простор, смертная тоска. Музыка оборвалась, в динамике зашуршало, точно там кто-то тайком ел ириски.
Человек-существо фантастическое,
Глянь, ракета летит баллистическая,
Сочиняет романы кручёные,
И готовит колбасы копчёные.
Человек-существо невозможное,
Трусоватенькое, осторожное,
Измерять поточнее пытается,
И отрезать никак –не решается.
— Ты чё лыбишься? — беззлобно спросил Дудь и сам улыбнулся.
— Забавно, — ответил Цаплин. — Завтра в этот час меня больше не будет.
— Юморист! — Дудь зычно заржал. — Философ! Поэт, бля!
Цаплин изобразил неубедительную улыбку.
Завтрашнее не очень пугало его, правда, даже мысленно он не произносил слово на букву «К». Не так давно он мечтал о подобном исходе — на площади, прилюдно, на глазах всего мира. Примерно так: он, Цаплин, декламирует стихи, его голос летит над толпой, грубые палачи заламывают поэту руки и тащат его на эшафот, он продолжает читать, толпа умолкает, даже палачи растерянно замирают, Цаплин сам поднимается на плаху, как на сцену, как на трибуну — теперь его голос подобен грому. Не голос — глас! Он мощнее всех репродукторов на свете. Женщины в толпе начинают рыдать, начинают плакать дети. Мужчины мрачнеют, тайком утирают слёзы. Его стихи проносятся над площадью, летят над Москвой-рекой, петляют в руинах Арбата, несутся над чёрным пепелищем Рублёвки. Голос Цаплина слышат пограничники в дозоре, слышат его «фартовые» в дремучих чащах, голос проникает даже в Главный Бункер. Там над дубовым столом склонился тот, чьё…
— Уснул что-ли? — Дудь больно ткнул Цаплина указательным пальцем в лоб.
— Извините, — пробормотал тот.
— Ну где этот, бля, козёл? — охранник сплюнул и поглядел по сторонам. — За смертью посылать…
Дудь засмеялся, шутка получилась смешная и очень в тему. Он вспомнил, что Веруня придёт вечером, им в «пожарке» выдали яйца — шесть штук. Можно будет капитальный омлетище сварганить. Со свежим лучком. Веруня обещала остаться на ночь. Хорошо бы только тревоги не было.
— Слышь, поэт, — Дудь посмотрел вниз, подмигнул. — А не страшно?
Цаплин пожал плечом. Охранник хмыкнул.
— Чудно! Не пойму одного — какого, бля, хера?
— Извините, в каком смысле?
— Ну на хера ты эти стихи сочиняешь? Ты ж москвич, грамотный пацан, не урла деревенская! Мог бы карьеру сделать — вон, на «вестях» или в «голосе» фраера такую капусту рубят! Мог бы до Стальной категории подняться! Синяя повязка — почёт и уважение! Бабло, тёлки, харч! А ты — стихи!
Дудь говорил громче, постепенно распаляясь.
— Извините, — Цаплин кашлянул. — Извините, но дело в том, что сочинение стихов происходит непроизвольно. Без моего участия. В ранней юности я перенёс травму — сотрясение мозга, к тому же чуть не утонул. Вполне возможно, что это и послужило…
— Ну ты, бля, баклан! — заорал Дудь. — Ну что ты мне вагранку крутишь? Само у него сочиняется! Тебя же дважды арестовывали! Дважды! И ты знал, в третий раз — кирдык!
Цаплин вдруг засмеялся. Кирдык — третье «К». Казнь, конец, кирдык.
Вернулся патрульный, протянул Дудю зажигалку. Тот потряс её, зажёг. Резко пахнуло керосином, рыжее пламя полыхнуло, закоптило. Охранник прикрутил фитиль, вытащил из планшета железку с деревянной ручкой. К другому концу железки было припаяно кольцо с крестом посередине. Дудь поднёс пламя к кольцу, начал калить. Металл тут же покрылся копотью.
Цаплин не сводил глаз с оранжевого огня зажигалки. Ноги Цаплина затекли и онемели, он незаметно с корточек встал на колени. Дудь мелко плюнул на железку, слюна зашипела.
— Голову поднял! — приказал. — Да не егози ты, прям как целка! Я ж ласково…
4
Цаплин не мог вспомнить, как он оказался на Вдовьей Горке. Боль от ожога, сначала нестерпимо острая, через пару часов унялась и сейчас тупо пульсировала, упруго наливаясь тяжёлым жаром. На Радищевской Цаплин нарвался на патруль. Жандармы избили его, но не сильно, а увидев клеймо на лбу, пнули пару раз для порядка и отпустили. Он спустился по Гончарной к реке. Тут было тихо и пустынно, пахло городским летом, тёплой пылью, жухлой травой, над чёрным скелетом Краснохолмского моста вставал чуткий месяц, на той стороне, где-то в районе Зацепа, малиново тлел пожар.
Цаплин побрёл в сторону Новоспасского монастыря. На отлогом берегу монастырского пруда горел костёр, рядом стояла большая армейская палатка — не палатка, целый шатёр — с красным крестом на линялом брезенте. Вокруг огня сидели женщины, дюжины полторы баб разного возраста. Цаплин подошёл и попросил разрешения посидеть рядом. Он сказал, что завтра его казнят, пальцем указал на лоб. Женщины потеснились, кто-то спросил, где казнь, Цаплин ответил — Таганка. Добавил — арена.
— Так это ж десять минут, — бабы оживились, — днём всё равно клиент не идёт. Придём-придём. Спасибо за приглашение.
— А как казнить будут, — поинтересовалась тощая старуха с бельмом на глазу. — Волей Народа?
Цаплин кивнул.
Одноглазая одобрительно кивнула в ответ, аристократично махнула жилистой рукой, отгоняя дым. От костра воняло палёной резиной, там тлела автомобильная покрышка. Девица помоложе, но с совершенно седой копной волос, предложила Цаплину минет, добавив, что, разумеется, бесплатно. Цаплин поблагодарил и вежливо отказался. Женщина в тугом платке с жёлтым ликом старой иконы спросила: казнят за что?
Цаплин задумался. За слова? За мысли? Но ведь он даже не знает, кто шепчет ему эти слова и кто вливает в его сознание эти мысли. Ведь нелепо даже предположить, что сам Цаплин, профан и недоучка, является автором стихов. Он всего лишь инструмент, вроде флейты.
Цаплин обвёл лица женщин медленным взглядом. Незнакомые лица чужих женщин показались ему невыносимо трагичными и в то же время непередаваемо прекрасными. Не красивыми и не прелестными, нет, — именно прекрасными.
То ли зыбкий янтарный свет, что пламенел на тёмных ликах, то ли чернильная бездна вокруг, а, может, сухой песок его последней ночи на земле, мельчайший чёрный песок, неумолимо бегущий сквозь пальцы, сколь крепко не сжимай кулак: пламя качалось, гигантские тени призрачно бродили по монастырской стене, теперь Цаплину казалось, что они в открытом море и плывут куда-то; и будут плыть бесконечно; и никогда не наступит утро, ведь «никогда» это и есть «всегда» на самом деле, если вдуматься.
Как получается жираф, из пятен, гордости и шеи,
Каприз божественной затеи, так получается жираф.
Как получается успех, из капель боли и тревоги,
Ногами месим кровь в дороге, так получается успех.
Как получается печаль? Из мелких капелек кручины,
С причиной, или без причины, так получается печаль.
Он читал стихи до рассвета. Женщины внимательно слушали — они грустили, они смеялись, они плакали, причём, плач их был открытый, без стеснения, такой же чистосердечный, как и смех.
В танце нарядном, изогнутых линий,
в глади озёрной луну утопив,
Плавала ночь. Ослепительно синий,
плащ натянув, цвета бархатных слив,
Ночь кончалась. Костёр догорал. Волшебство, как и любое стоящее чудо, таяло и подходило к концу. Небеса светлели в свинцово-серое, месяц исчез, из пролома в монастырской стене торчал ржавый танк без башни. Башня с оторванной пушкой увязла в прибрежном иле метрах в ста от стены.
У костра остался лишь Цаплин да женщина с тёмным ликом святой мученицы. Она порылась в котомке, достала оттуда глиняную трубку, достала матерчатый мешочек, грязный, на верёвочных завязках. Кисет — слово само всплыло в сознании Цаплина, хотя раньше он его и не слышал. Последний раз Цаплин курил в пятом классе, тогда шмалили контрабандную махру — бухарскую, после курение запретили вообще. Сперва ввели штраф, потом — срок. Последние лет десять за курение полагается смертная казнь.
Женщина набила трубку, вынула из костра горящую ветку, прикурила. Трубка зашипела, пахнуло осенним листом, горечью и ещё чем-то пряным, вроде корицы. Женщина выдохнула дым, протянула трубку Цаплину. Тот осторожно затянулся.
— Смерти не бойся, — женщина сказала тихо. — Ты не умрёшь.
Цаплин обрадовался по-детски невинно, хоть и понимал ничтожность шанса остаться в живых. Он затянулся ещё раз и вернул трубку. Она взяла.
— Душа твоя в словах, — тихо сказала. — В стихах. А душа бессмертна.
— Это как?
— Сегодня душа в твоём теле, а завтра…
О том, что его ждёт завтра Цаплину думать не хотелось совсем.
5
Казнь закончилась до обидного быстро. От начала до конца процедура заняла минут тридцать, тридцать пять от силы. Дудь помнил казни, которые длились часами. Народу тоже пришло немного, хотя и погода выдалась чудесная, да и рекламу крутили вчера целый день по всем радиоточкам Центрального округа.
Прикатил Изюмов из Главупра, на рукаве новенькая повязка синяя, рожа сияет; сам, сука, только кивнул издалека, даже из каталки не вылез, гад. И уехал, конца не дожидаясь. Наверняка теперь денунциацию настрочит в Комиссию. Настроение у Дудя испортилось окончательно. По возрасту, да и по заслугам, чего уж скромничать, ему давно пора носить «синьку». Если не дадут СК, то вполне логичен будет перевод на периферию, снова в какой-нибудь чёртов лагерь. Вон как Жабинский загремел: ходил по Упру таким козырем, его даже в замы Надрову прочили. И где он теперь, этот Жабинский?
Народ расходился, арена пустела. Дудь сплюнул под ноги. Он помнил, когда тут был сквер с жухлыми кустами и ржавыми скамейками. Травы не было, была сухая глина. Было пыльно и душно, но бабуся водила его сюда, чтобы он мог поиграть с окрестной мелюзгой в «дуньку» или «салочки».
Подкатила труповозка, пара коренастых бурятов с одинаково медными лицами, проворно отвязали тело от столба и запихнули мёртвого Цаплина в картонную коробку. Под столбом осталась тёмная лужа, буряты засыпали её песком. Дудь дунул в свисток, один из бурятов подбежал и сел на корточки. Дудь выудил из планшета пару минет-жетонов, кинул сначала один, потом другой. Бурят сноровисто поймал обе жестянки на лету, после, не вставая с карачек, по-крабьи, ретировался.
Цирики собирали камни в корзины, комендант арены Вырин что-то спросил у них, те выпрямились, лениво пожали плечами. Вырин направился к Дудю, одной рукой на ходу одёргивая китель. Экзекутор уже знал, о чём пойдёт речь.
— Фальшак? — спросил он.
— Так точно, три фальсификата выявлено, — комендант протянул ему камень.
— Думаешь, орудует та же группа?
— Так точно! Зунгеры с Котельников.
Камень был гораздо тяжелее норматива.
— Вот суки… — Дудь вернул камень коменданту.
— Так точно. И ведь что характерно, на всех трёх фальсификатах наша метка стоит. Таганская.
Экзекутор отряхнул ладони, направился к выходу.
Характерно — почему характерно? Какой идиот всё-таки этот Вырин. Рапорт нужно написать, быстро, прямо сейчас. Упредить Изюмова. Превентивный манёвр профилактического свойства. Нет — упреждающий удар превентивного свойства.
Дудь вышел за ограду. Порыв ветра хлестнул по лицу тёплой пылью и песком. Он закашлялся, что-то щекотное застряло в горле. Комар чёртов, или мошка какая? Дудь крякнул, прочистил горло, сплюнул под ноги. Растёр плевок подошвой.
Арена была обнесена железной сектой. По периметру висели линялые агитки, плакаты с портретом Верховного. А ведь он похож удода, — подумал экзекутор и сам испугался своей мысли. Он огляделся и начал громко и фальшиво свистеть нечто бравурное. Срочно писать рапорт, срочно в управу. Промедление смерти подобно!
Но вместо этого Дудь отпустил каталку. Он расстегнул мундир, верхнюю пуговицу, и, продолжая свистеть, направился в сторону Китай-города. Редкие прохожие, завидя его, отходили к краю тротуара и садились на корточки. Экзекутор не обращал на них внимания, он шагал, свистел, иногда ладонью вытирал бритую голову. Ну и жарища, вот ведь пекло, ну и зной. Вот бы кваску холодного сейчас. Бабусиного — на берёзовых почках настоянного. Дудь вздохнул: нет ни квасу, ни бабуси.
На месте станции метро чернела дыра — не воронка — кратер. Яма там, говорят, глубиной в километр. Западло в ту ночь били гипогенными, накрыли весь генштаб, там бункер был Верховного. Самого в бункере не оказалось — бог уберёг отца нации. Жахнуло тогда капитально. У Дудя люстру с крюка сорвало, ещё бабусина люстра, богемская. Весь пол как в бриллиантах был. Взрывной волной тогда всю округу в щебёнку разметало — аж до Курского вокзала. Весь их элитный новострой на бульварах — в прах. А наша коммуналка устояла, да и сейчас стоит. Вот как строить надо! И Яузская больница цела-невредима стоит. Триста лет больнице — как новенькая. Жаль, вот парк на дрова пустили, эх, какие тут дубы и липы росли!
Экзекутор махнул ладонью, послав салют каменным львам у входа. Хищники не ответили на привет, они крепко спали, как и положено кошкам в знойный августовский полдень. Дорога нырнула и пошла под горку. Впереди блеснул изгиб Яузы. Дудь не поспевал за своими ногами, он рассмеялся в голос и вдруг громко, на всю улицу, произнёс:
Как это мило, ноги есть и мы идём,
Туда, где ждут, а иногда, не ждёт никто,
И как же вкусно целоваться под дождём,
Не замечая мокрое пальто.
На той стороне Радищевской две бабы деревенского вида, в тугих вдовьих платках, шарахнулись и юркнули в переулок. Экзекутор зычно захохотал им вслед.
— Я сыр доел, откройте мышеловку! — гаркнул он и неожиданно даже для самого себя вдруг громко прокукарекал.
Дудь вспотел. Ему было душно, жарко, тесно. Он рывком распахнул китель, медные пуговицы весело зацокали по асфальту, разлетелись, как карманная мелочь. Армейское сукно воняло мокрой псиной. Вывернув китель наизнанку, Дудь пытался выпутаться из рукавов. Но китель не сдавался. Кисти рук намертво застряли в манжетах.
— Подлец! Каналья! — рычал экзекутор. — Порождение гиены!
На Астаховом мосту китель сдался. Дудь хищно скомкал его и швырнул в Яузу.
— Любовь твоя бесчувственна как мыло! — заорал экзекутор, перегнувшись через чугунный парапет.
Река смолчала. Неподвижная вода напоминала застывший вар.
— Мечтаешь о вдовце, чтоб снова стать вдовою! — Дудь смачно плюнул вниз.
Его распирало буйное веселье, злой азарт безнаказанности. Он был в кураже! Да, я сорвался с цепи, да, я летящий болид. Скорость звука — чушь! Я несусь со скоростью света!
— Эй вы, крокодилы! Не подходи! Могу взорваться!
В горячечном задоре экзекутор чуть было не сиганул с моста, изнутри его разрывало жгучее желание выкинуть ещё какой-то фортель. Он стянул сапоги, один за другим швырнул их в Яузу. Следом полетели галифе с подтяжками. Исподнюю рубаху стянул через голову, следом снял трусы, всё скомкал и швырнул вниз.
Дудь шагал по Солянке. Его большое тело было по-бабьи гладким и розовым. Он размахивал руками, иногда пританцовывал, звонко шлёпая босыми пятками по асфальту. Он пел, иногда что-выкрикивал и снова пел. Редкие прохожие, завидя голого человека, бежали прочь.
Он свернул в арку. В прохладном гулком полумраке Дудь остановился и рявкнул:
— Вы мне любовью уши оттоптали!
Дверь подъезда грохнула пушкой. По ледяным ступенькам экзекутор пронёсся на третий этаж. Запасной ключ притаился за щитком мёртвого электросчётчика. Из квартиры пахнуло старьём, шерстяным тленом, бережливой нищетой — ну не смог Дудь выкинуть бабусины вещи — не смог!
В гостиной он распахнул настежь окно, вскарабкался на подоконник. Голуби с карниза кубарем сорвались вниз, после взмыли в синь. В зыбкой дымке, где-то в Замоскворечье, блеснул искрой купол церкви. Женщина на той стороне улицы подняла голову и застыла. Дудь выпрямился, развёл руки в стороны и глубоко вдохнул.
Как получается печаль? Из мелких капелек кручины,
С причиной, или без причины, так получается печаль.
Как получается полёт? Путём отрыва от чего-то,
И веры в крылья самолёта, так получается полёт.
Внизу собиралась толпа. Появился участковый. Должно быть он вызвал патруль.
Как на душе растёт мозоль? Всему что на душу ложится-
Ты, запрещаешь шевелиться. Так получается мозоль.
Начали ломиться в дверь. Колотили, пинали, ругались — эхо ухало, металось вверх и вниз по лестничным пролётам. Дверь, стальную, с сейфовым замком, ставили в прошлом веке; с гарантией, — говорила бабуся, — такую только танком можно взять.
Толпа росла. Зеваки запрудили тротуар и мостовую. Жандармский ротмистр, сложив руки рупором, требовал прекратить противоправную деятельность и немедленно сдаться. Дудь хохотал в ответ.
Как получается тюрьма? Когда себе не разрешаешь
Свободно жить, дышать мешаешь, так получается тюрьма.
Прибежали пожарные. Они волокли лестницы, крючья, мотки каната. Горнист протрубил отрывистый сигнал, толпа колыхнулась и подалась назад. Дудь ступил на карниз, босую ногу обожгла раскалённая жесть. Держась одной рукой за раму, он высунулся из окна и увидел, как пожарники сноровисто начали карабкаться по фасаду дома, по водосточным трубам. Как муравьи, — подумал Дудь и крикнул вниз:
— На абордаж, канальи!
Из толпы кто-то гаркнул:
— А прыгнуть слабо!
Другой голос поддержал:
— Давай, прыгай!
Несколько голосов, а после и вся толпа, хором орала:
— Пры-гай! Пры-гай! Пры-гай!
Дудь пытался говорить, но рёв толпы заглушал слова. Он жестами просил тишины, но люди орали только громче. Он устало махнул рукой, теперь он просто стоял, смотрел вниз и улыбался.
Азарт выдохся. Кураж сошёл на нет. Навалилась смертельная усталость, но не тёмная и тяжкая, а благодатная, как после ладно и на совесть сделанной работы. Толпа внизу, искалеченный, почти мёртвый, город, — какая, в сущности, нелепость эта жизнь, какая обуза. Всего лишь шаг и…
Он закрыл глаза и увидел своё сломанное тело на асфальте, нежно розовое на грубо сером, алая клякса вытекает из-под головы.
— Нет, не так… — он спрыгнул на пол. — Грубо! Грязно! Они же именно этого и ждут.
Дудь выскочил из комнаты, распахнул кладовку. Посыпались коробки, узлы с тряпьём, грохнулась лысая швабра. В фибровом чемодане, на крышке ещё сохранилась аккуратная надпись «Федя Дудь, третий отряд», среди старых игрушек, цветных стёклышек, забавных камушков, значков и прочего хлама, он нашёл то, что искал: толстую верёвку с петлёй.
Дудь вернулся в комнату. Он поднял голову, из лепного узора на потолке торчал крюк.
— Ах, какая люстра была… Богемский хрусталь.
Круглый обеденный стол был накрыт мягкой скатертью с золотыми кистями. Он стоял посередине гостиной. С улицы долетал крики толпы, резкие команды пожарного сержанта. Дудь накинул петлю на шею, подтянул узел, совсем как на галстуке. После двумя руками взял стул и бережно, чтоб не поцарапать лак под скатертью, поставил стул в центр стола.
Вермонт 2023
В рассказе использованы
стихи И.Бродского, В.Набокова,
С.Евелева ©