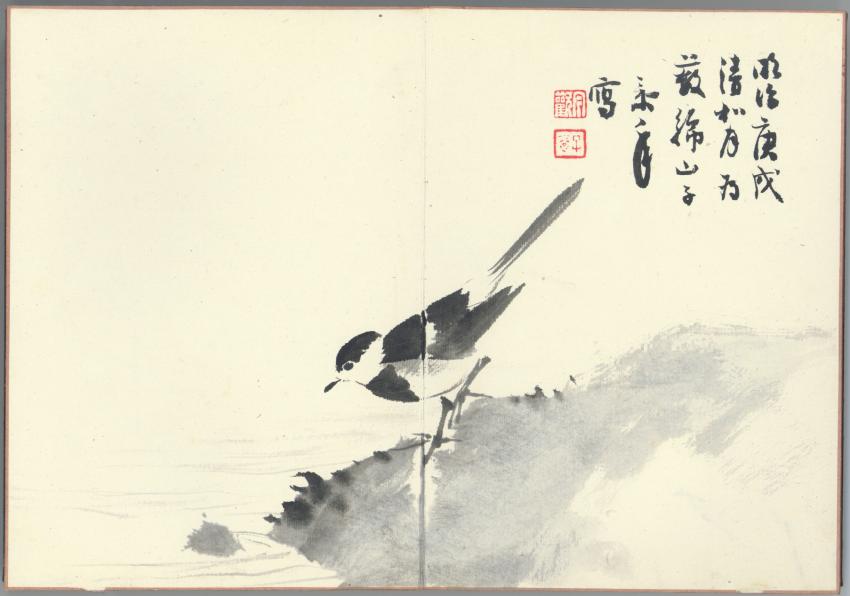Я проснулся в Нью-Йорке.
Разбуженный мягким утренним солнцем, я поднялся с деревянной скамейки в шаге от пляжного побережья Кони-Айленд в южной оконечности Бруклина. Я отказывался в это верить. Судорожно, словно гроссмейстер в эндшпиле, бегло перебрал шальные варианты, как я мог здесь оказаться и теперь искал глазами хоть какие-то подсказки, прекрасно понимая, что этого не может быть, что это какой-то дурацкий розыгрыш или мистификация, которую нужно было срочно хоть как-то оценить.
Не складывалось ровным счётом ничего.
Мои полуботинки, которые я давно не носил, стояли в изголовье ребристой скамейки. Это были чуть потрёпанные мужские туфли приличной ручной работы башмачника, которого я видел лишь два раза – когда заказывал и когда получал кожаную пару из его грубых, но мастеровитых рук. Я поднял полуботинки, поднёс к лицу и невольно принюхался. Знакомый грибковый запах, от которого я пытался избавиться с помощью раствора уксусной эссенции, остался, и мне даже показалось, будто теперь мерзко пахли не только кожаные стельки, острые носки, сьюзки, берцы, задники туфель, но даже тонкие полиуретановые подошвы.
С изумлением я ещё раз покрутил в руках полуботинки и затем аккуратно поставил их на дощатую поверхность набережной.
Променад Ригельмана, сколоченный из лиственничной рейки, был припорошен мелким песком, нанесённым порывами легкого ветра. Крошечные дюны постоянно меняли свои, замиравшие на миг, очертания. Словно неведомые живые существа, зыбкие песчаные тела постоянно извивались от резких воздушных потоков. И казалось, будто они дурачатся и с азартом уличных лицедеев соревнуются между собой, увлеченные игрой в перевоплощение.
Несколько минут я зачаровано наблюдал за кварцевой рябью, плавно скользившей по некогда рифленым доскам.
Наконец отвлёкся, подровнял острые и чуть сбитые носки полуботинок. Выпрямился и осмотрелся ещё раз.
Крикливые чайки носились вдоль набережной в надежде поживиться. Они не боялись людей, которых намеривались обокрасть, стащив оставленные без присмотра недоеденные гамбургеры (чизбургеры), куриные наггетсы или дольки картошки фри, обвалянные в песке. Птицы ловко лавировали между редкими фигурами курортников, идущих к океану, и, рассекая воздух своими большими серыми крыльями, пару раз пронеслись так близко от меня, что я отчётливо слышал звуки, похожие на сухой кашель старика.
Я всё ещё неважно соображал.
Хотя мне не было плохо. Не болела голова, и меня не трясло с похмелья.
Я не пью в рабочие дни. Это правило я завёл лет десять назад и с тех пор живу совершенно трезво до вечера прекрасной пятницы. И лишь в конце недели я зависаю в центре города и позволяю себе до утра болтать и пить водку с новыми подружками за стойками баров в клубах шумного «Модного квартала».
Но сегодня не суббота.
И, хотя вчера – во вторник, я немного понервничал и простоял лишних двадцать минут в пробке на плотине ГЭС – я всё равно не сорвался. Без приключений добрался на своей «тойоте» до микрорайона «Солнечный», в котором жил уже семь лет в съёмной однокомнатной квартире на последнем этаже панельной девятиэтажки. Разогрел в микроволновке миску риса с кусочками свинины в кисло-сладком соусе и давился китайским фаст-фудом без единой капли спиртного.
В этом у меня не было никаких сомнений…
Однако океанский бриз нагнал на набережную освежающий воздух, и я невольно встрепенулся.
Машинально поднёс к глазам наручные часы. Те самые, которые несколько раз хотел купить в салоне «Золотое Время», но всегда нервничал и никак не мог избавиться от приступов дичайшей жадности, накрывавших меня в этом популярном среди местных олигархов бутике.
Тонкая жёлтая стрелка часов медленно кружила по белоснежному циферблату, без резких, дергающихся движений – как у дорогих механических «котлов». Я не знал когда и как фирменные «Ролекс» оказались на моей руке, однако они показывали вполне реальное утреннее время.
То, в котором я в данный момент оказался.
Закусочные и ресторанчики Кони-Айленда только что открылись. Среди этих колоритных заведений, растянувшихся вдоль всей набережной Ист-Ривер, особенно выделялись легендарные «Рабиз» и «Натанз Фэйуз». За их огромными и красочными вывесками, венчавшими одноэтажные строения, как и положено, в большом развлекательном парке, поскрипывало колесо обозрений. В моём случае это был увешанный люльками аттракцион «Вандер Виил». Он только начал работать и в крохотных разноцветных гондолах, болтавшихся от порывов ветра, отдыхающих было немного. Однако праздничный гам, свойственный курортным зонам, постепенно нарастал и, проходящие мимо меня болтливые горожане и гости мегаполиса, лишь дополняли атмосферу увеселительной полоски земли на краю океана. Эта особенная, прославленная нью-йорским писателем, режиссером и интеллектуалом-чудаком часть побережья Скот-Айленда не оставляла мне шансов сомневаться в том, что я действительно сижу на скамейке в южной оконечности Бруклина, прозванного переселенцами из Нидерландов «Кроличьим островом». Я сразу же узнал вышку «Парашютный прыжок». Скелет гигантского зонта поскрипывал металлическими суставами, и пару минут я ошарашено рассматривал это рукотворное чудо высотой семьдесят шесть метров и не мог поверить, что разноцветные «грибки» на металлических тросах «Бруклинской Эйфелевой башни» сновали вверх-вниз абсолютно реально.
Как в фильме Вуди Алена «Колесо чудес».
А холодная напыщенность океана, волнами набрасывающаяся на песчаный пляж, утыканный спасательными вышками, меня не остужала.
Я всё ещё не верил в реальность происходящего. Мне хотелось дополнительных, убедительных фактов и я с тревогой поднял свежую «Нью-Йорк Таймз», которую пригнал ко мне усилившийся ветер. Большеформатное издание досталось мне немного замызганным, утраченным, но с первой, надорванной по диагонали, полосой.
Это был номер от второго августа тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года.
Я был потрясён. Изумление оказалось настолько сильным, что я невольно вскрикнул. Весь покрылся испариной. Вскочил со скамейки. И озираясь, только теперь стал подмечать, что курортники одеты по моде пятидесятых годов прошлого века.
Дамы в платьях, похожих на песочные часы, с приталенным верхом и пышным колокольным низом, впечатляли. Их лица были немного смущенными и взволнованными в преддверии нескольких часов пляжного отдыха под солнцем, ползущем по дуге в зенит. Мимоходом они косились в сторону стеклянных витрин, и украдкой поправляли выбивавшиеся из-под изящных шляпок крупные завитки, высокие бабеты, густые чёлки, тщательно уложенные с утра. Размахивая сумочками-клатчами на позолоченных цепочках, маленькими сундучками или изящными ридикюлями они, несомненно, нравились себе и еще крепче держались за руки своих кавалеров. Кокетничая, красотки постоянно поправляли свои солнцезащитные очки: «клабмастер», «вайфарер» или супермодные «лисички» с раскидистыми, как подведенные глаза, краями и таращились то на оживавший пляж, то на шумную давку на выходе из нью-йоркской подземки.
Ветерок беспечно парусил их яркие платья…
Много лет назад, когда отец уже бросил нас, я случайно заглянул в спальню мамы. Стоя боком к окну, она перебирала вещи, и я хорошо помню, как смущаясь, мама вдруг замерла пред трюмо, прижав к груди своё старое платье. Стильное, с узким лифом и пышным низом, усеянное большими маками, набитыми на ткань, оно прекрасно сочеталось с её вспыхнувшими на миг большими изумрудными глазами. И я тут же вспомнил, что видел в нём маму на поблекших студенческих фотографиях, которые она по традиции тех лет бережно хранила в своем девичьем – ставшим позже общесемейным – альбоме. Этот увесистый, в прочном коленкоровом переплете, фолиант, с десятками картонных станиц, просечённых наклонными прорезями под уголки фотографий, мы смотрели с мамой много раз. Листая его, она всегда читала вслух заметки, начертанные её рукой на тыльных сторонах глянцевых и матовых снимков. То весело, то с грустью говорила о своей молодости и, замирая, всматривалась в любительские фотографии с волнообразно обрезанными краями, на которых была запечатлена либо с одногруппницами из авиационного техникума; либо на поле подшефного колхоза с кустом картофеля в руках; либо разгоряченная после эстафеты с усталым, но довольным лицом в обнимку с деревянными лыжами; либо с лучшей подругой той поры, связь с которой потеряла много лет назад. Но один большеформатный снимок, сделанный в фотоателье, мне нравился больше всего. Я брал его в руки и с восхищением рассматривал мамин фотопортрет. Запечатлённая крупным планом, в бархатной шляпке-таблетке с сетчатой вуалью, оттенявшей её красивое, слегка подретушированное фотохудожником, лицо, она походила на молодую актрису, впервые попавшую на главную страницу популярного журнала «Советское кино» и выглядела абсолютно счастливой… Такой, какой я её почти не знал. Потому что, встретив своего первого и единственного мужчину, она, не раздумывая, вышла за него замуж, а спустя полгода, уже беременная мною, бросила самодеятельную сцену, на которой блистала как подающая надежды певица.
Своим невероятно нежным голосом, похожим на сонный дождик, она часто пела мне, когда я болел или капризничал в кроватке, разбуженный отцом, возвращавшимся за полночь после проигранных бильярдных партий в Доме офицеров.
С первых дней супружеской жизни придирки отца к её артистическим увлечениям, к старым друзьям, к ярким нарядам, которые она шила по выкройкам из столичных журналов мод, за несколько лет превратили маму в блёклую и уставшую женщину, измученную совершенно беспочвенными приступами грубой отцовской ревности.
Хотя больше десяти лет они обманывали себя и, как все счастливые супруги, ходили под руку в кино и на концерты популярных эстрадных исполнителей, которых не часто заносило в наш дальневосточный гарнизон…
Чуть в стороне от меня, возле высоких трубчатых перил, напротив закусочной «Полз дагтер» выясняла отношения влюбленная парочка. В этом не было сомнений хотя бы потому, как они нервно бросались словами и размахивали, словно ворчливые чайки, своими ощипанными крыльями-руками. В короткие паузы раскрасневшаяся женщина напряженно смотрела на подтянутого голубоглазого брюнета и, едва он пробовал что-то говорить, тут же грубо его перебивала. И тогда яркие губы возмущенной Джини подолгу не смыкались, ведь ей так много хотелось сказать красавчику Микки.
Удивительно, но это были именно они.
И я уже знал, что будет с ними спустя минуту, две, три… потому что несколько раз пересматривал этот фильм, ради сцены, в которой Джини дарила Микки карманные часы с гравировкой. Той, несомненно, ключевой, но так и не вошедшей в фильм сцены, по странному капризу нью-йорского чудака. И те несколько очень важных, адресованных Микки, слов, станут для меня болезненной, не открывшейся тайной, упрятанной Вуди Аленом внутрь золотых, похожих на крохотное колесо обозрения, часов.
Я открыто пялился на них и напряженно ждал, когда Джини окончательно разозлится. Будет монологом кричать, а затем, потеряв самообладание, вырвет из рук Микки только что подаренный хронометр и с силой забросит его в зыбучий пляжный песок. И в этом бесконтрольном порыве гнева она лишит себя и Микки той призрачной надежды на спасение их общей, так и не начавшейся, счастливой жизни. А меня – тех самых рожденных её чутким сердцем слов, которые она передала гравёру на сложенном пополам белом клочке бумаги.
И я знаю, что буду делать, как только они, доскандалив, расстанутся.
Я буду рыть песок и искать эти чёртовы часы, чтобы наконец-то прочесть по слогам эти несколько трогательных строчек, выгравированных неразделенной любовью на внутренней стороне позолоченного блюдечка.
Поскольку это важно для меня.
Потому что другая поразительно схожая история, со своим потерявшимся во времени финалом, вот уже шестьдесят лет мучает меня. С самого рождения. С моего первого вздоха на втором этаже в городской больнице стекольного завода, куда бледную, стонущую от участившихся схваток, мать отец домчал на жесткой дедовской двуколке. Помог маме выбраться из повозки. Медленно завёл её в приемный покой родильного отделения и передал под опеку знакомой акушерке, на заботливые руки которой спустя несколько минут я с криком плюхнусь крупным и здоровым ребёнком. Таким, какими бывают только мальчики, переношенные матерями под своими удивительно добрыми женскими сердцами. Теми большими сердцами, которые всегда будут биться за нас и вместе с нами эти общие несколько лишних, перехоженных дней беременности. А затем, дав нам жизнь, они будут наполнять теплом и материнской заботой первые минуты, часы, месяцы, годы нашей начавшейся жизни. Опекая, будут растить нас «настоящими людьми», продолжателями и носителями домашних традиций с россыпями загадочных семейных историй, в которых, разбираясь сами «как малые дети», мы всё же неизбежно что-то упускаем.
Или невольно теряем.
Поэтому я теперь могу лишь мучиться и гадать, какие слова растроганного «старлея» мастеровитый гравёр вырезал на тыльной стороне изящной серебряной «бронзолетки», которую отец хотел подарить маме в день моего рождения…
Последние месяцы, когда мама сложно донашивала меня, отец, как многие будущие папаши, побывал терпеливым психологом, заботливым мужем, расторопным медбратом, а однажды, пережив ночное роение души, даже поэтом, и впервые в жизни сочинил четверостишье, посвящённое своей прекрасной женщине и мне – ещё не рождённой дочке.
Он был убежден, что родится девочка, потому что верил в народные приметы, календарные графики и сложные математические расчёты, на которые потратил несколько вечеров. Однако медсестра из предродовой, которую он подманил пастилой в картонной коробке, его неожиданно расстроила. И изменившийся лицом отец вначале не поверил ей. Замотал головой, потому что отчётливо слышал мой девчачий, оглушивший всё отделение, голос, потому что уже отметил моё рождение восторженным «ура», как очередную звёздочку на своих офицерских погонах.
Тогда в его голове ничего не ладилось. Он виновато улыбался и думал, что над ним, подговорив «ради хохмы» медсестру, подшутили друзья-однополчане, которые в ожидании традиционной попойки, весело курили около входа в больницу… Однако растерявшаяся медсестра, прижав к груди коробку пастилы, лишь виновато улыбнулась, но ничего в своих словах менять не стала.
Отец совсем помрачнел. Сбросил со своего плеча руку деда, который пытался его успокоить. На ватных ногах медленно развернулся и в тусклом свете больничного коридора стал похожим на обреченного, идущего в никуда, слепого брейгелевского поводыря.
Не реагируя на окрики нянечек, врача-акушерки, изрядно заждавшихся молодых офицеров, пытавшихся его остановить, с пустым, выпотрошенным от смыслов, лицом, он забрёл в высокую траву больничного скверика. Залез рукой в карман широких брюк с мокрыми от росы манжетами, вынул браслет и со всего маху зашвырнул его в дальние разросшиеся кусты, в день моего рождения – второго августа тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года…
А когда опомнился, бросился его искать.
Он обшарил всё пространство крохотного сквера, но браслета не нашёл. И дарственную надпись на обручье, нанесенную безвестным гравёром под диктовку моего, погибшего «от водки» отца, теперь никто не прочтёт. Ни зритель, ни я, ни, верная мужу, моя недавно умершая мама.
И те несколько искренних, рифмованных строк уже никого не сделают счастливым.
Ведь они навсегда потерялись во времени, сделав свой последний, причудливый виток вокруг пальца изменчивой фортуны…