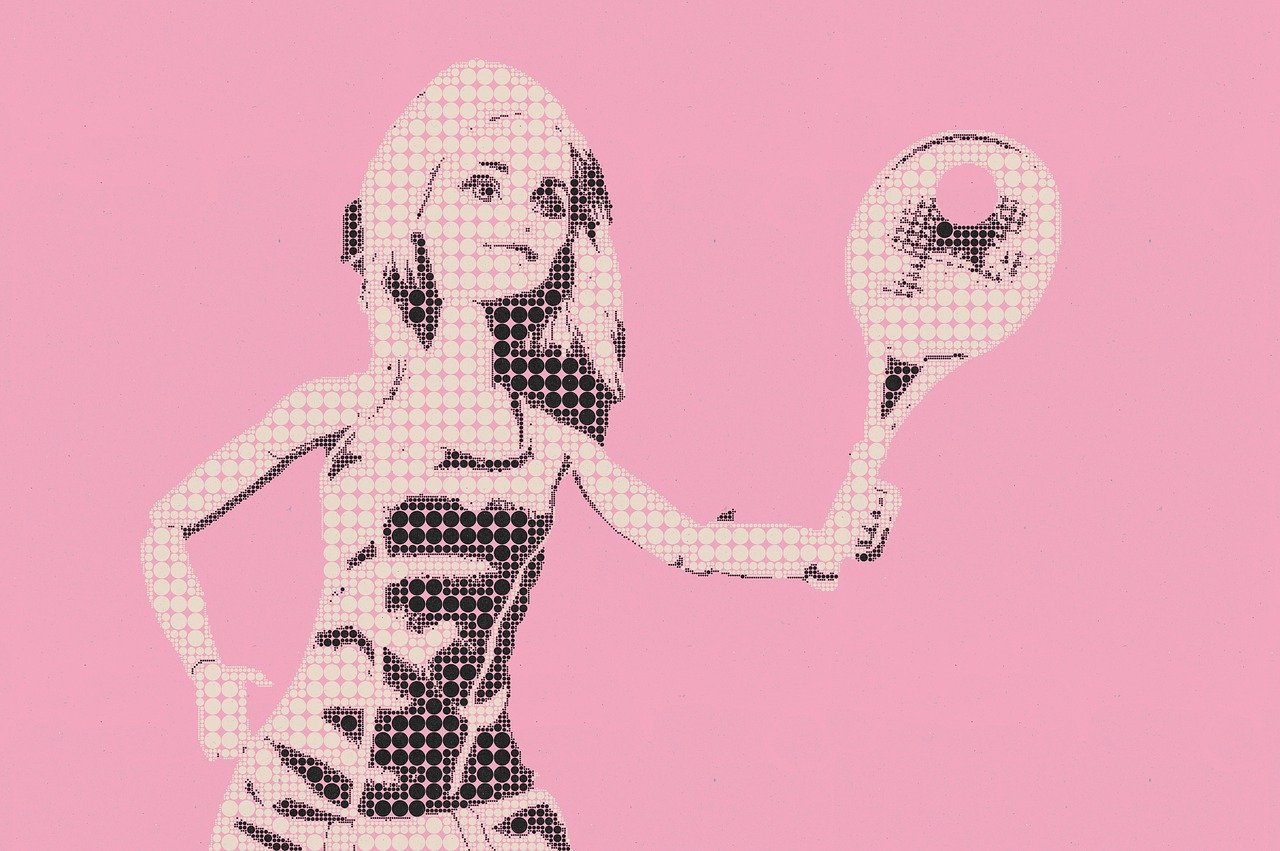Среди несчастья трудно удержаться на материалистических позициях — всякая чепуха начинает представляться мистическим предзнаменованием: ну зачем, зачем мама назвала его Иришей?! Хотя что говорить — Иридий имя очень красивое и мужественное и для своего времени вполне современное. Папа с мамой Смирновы и вообще для своего времени были современными людьми, а в той исторической обстановке и социальном окружении являлись людьми даже и культурными. В трактовке культурности Иридий Викторович невольно сбивался на вульгарноматериалистический тезис «человек есть то, что он ест»: когда все вокруг ели, только чтобы наесться, Смирновы следили, чтобы в питании присутствовали витамины. Для своего времени витамины свидетельствовали о высокой культурности, хотя нынешнее сложное время потребовало более изощренных слов: «гены», «гормоны» и «комплексы». Первое слово было заклятием беса виновности, отпущением грехов — его требовалось произносить, нешироко разводя руками (мудрости не пристали широкие жесты), когда внушаешь себе, что ты ни при чем, если кто-то — пусть даже ты сам — творит какие угодно мерзости: ничего, мол, не поделаешь — гены! Слово «гормоны» означало таинственную первопричину всего на свете, а словом «комплексы» именовались любые проявления совести. И вот комплексами-то Иридий Викторович был напичкан вплоть до самых интимных уголков своего организма.
Трагедия Иридия Викторовича заключалась в том, что он всегда СЛУШАЛСЯ СТАРШИХ. Он СЛУШАЛСЯ СТАРШИХ, предоставляя им свой организм без остатка, ничего не оставляя для внутреннего потребления. Он верил, что если что-то стыдно, то стыдно всегда и везде — ведь никто же ведь не скажет, что красть стыдно только на людях, а наедине — можно, и даже преотлично.
Иридий Викторович уже и не помнил, когда его поставили в известность, кого и чего положено стыдиться, но усвоил он это намертво и — пухленький пузырь в тазике с теплой водой, — смертельной хваткой вздернул приспущенные было трусики аж до подмышек, когда какие-то родственницы-не родственницы заклубились в дверях. Чуть ли не первое его воспоминание: закаменело впившись в свои трусики (для чужих у него никогда не было этой мертвой хватки), Иридий Викторович со страхом переспрашивает у мамы, до поры до времени допущенной к стыдным тайнам: «А они видели?..» «Не видели, не видели», — масляно улыбаясь, утешают родственницы-не родственницы, нисколько не скрывая, что все что надо они прекрасно разглядели.
Тем не менее, глупенький Иридий Викторович (Ириша! Ириша! — а года через два он уже просил маму считать его хотя бы Колей, если уж место Вити занято) в тот раз им поверил, но зато, когда поумнел, его не однажды вдруг обдавало жаром: взрослые женщины, которые помнят его беспомощным, не ведающим стыда младенцем — ведь вполне может статься, что кто-то из них у него все видел… Как же тогда жить?.. А по ним ничего не поймешь — при их не укладывающемся ни в какие рамки самообладании они всегда держатся так непринужденно, как будто у них у самих ничего такого нету…
А ведь у всех у них есть!!! Ну, почти у всех, не нужно так уж рубить сплеча, но у очень, очень многих — сдавался маленький Иридий Викторович, изредка позволявший себе робкие попытки бунтовать. И все-таки про некоторых взрослых (мужчин, мужчин, разумеется) он точно знал, своими, можно сказать, глазами исподтишка впивался, чтобы убедиться, что у них есть, а они держатся так (да, да, и с женщинами тоже!), будто у них нету. Или они за его спиной сговорились, что стыдно — это только понарошку, а на самом деле — не стыдно?
Впрочем, гораздо поразительнее было то, что кое у кого из них не только было, но у них еще и видели (врачихи, например, — сам был свидетелем!), а они только посмеиваются, почти что облизываются, как после варенья. Витька вон даже хвастался… Что его звали как и отца Иридия Викторовича — в этом тоже не было ли предзнаменования?.. Родной отец не сделал и десятой доли для воспитания маленького Иридия Викторовича. Так вот, Витька про каждую девчонку говорил, что все-все у нее видел (а по ним ни за что этого не заметить… иногда вообще кажется, что у тебя одного на всем свете это есть, только у тебя и видели). А однажды Витька вдруг наоборот похвастался, что Полячиха все-все видела у него. Этак через полгода они с Витькой по дороге в школу случайно встретили Полячиху, и Витька с тем самым, которое ни с чем не спутаешь, масляным дружелюбием завел с ней какую-то трепотню, — а Иридий Викторович, разумеется, тут же вспомнил, что она у Витьки все-все видела — и его обдало жаром, будто перед ним распахнули зев кочегарки, в которой работала Витькина мать. Он поспешил напомнить себе, что видела Полячиха у Витьки, а не у него — но ведь если у Витьки она видела, то про него, Иридия Викторовича, следовательно знала: тут дурой надо быть, чтобы не провести аналогию… И Иридий Викторович поспешно завертел головой, словно отыскивая какое-нибудь укрытие.
И все же — попробуйте что-нибудь понять в этом мире: у него, у Витьки, видели, и он же, Витька, и хвастается!
Витька, как и полагалось бесу-соблазнителю, исчадию темных бездн, окружавших чистенькие домики Управления, возникал не так уж часто, но память о себе оставлял глубокую, хотя и крайне смутную, как о дурном позавчерашнем сне. Только тот угар, в котором пребывал Иридий Викторович во время всех порождаемых Витькой происшествий, оставлял ему возможность не до конца верить, что все это и впрямь было (может, все и живут в таком чаду: у них есть, а как будто и нету?). Поверить было тем труднее, что участвовал Иридий Викторович в чем-то не просто недозволенном, а прямо-таки немыслимом — в самом прямом значении этого слова: в голове что-то начинало вспыхивать и гаснуть при малейшей попытке ясно припомнить какой-нибудь особо забористый фрагмент, и Иридии Викторович, не в состоянии вдуматься, лишь цепенел перед смутно клубящейся кошмарной непостижимостью.
Даже в самых невинных эпизодах они всегда занимались чем-то запрещенным — впрочем, запрещено было все вокруг, опасно было всякое соприкосновение с той мусорной кучей, которую кто-то раскидал вокруг крошечного, обсаженного акациями мирка опрятности и культуры (впрочем, это одно и тоже) — Управления, давши ей хамское название Механка и еще более хамски объединив с Управлением под общим названием «поселок городского типа Октябрьское» (многозначительно опять-таки сочетая мужской род поселка со средним родом его имени). Да и всякий непредвзятый наблюдатель, окинув Октябрьское с высоты птичьего полета, сразу различил бы — что здесь действительно желательно, а что лишь терпимо из милости либо по недосмотру. К первому относились чистенькие домики работников Управления с покоящейся на их лоне Главной Конторой (строгий фронтон с гербом над массивным козырьком завершал ее фасад внушительно, как фуражка милиционера), а ко второму принадлежали бурые, начинающие рассыпаться среди шлака и нагромождений ржавого железа заводские корпуса, окруженные окончательно рассыпающимися беспорядочными хибарами. Иридий Викторович знал с беспамятных времен, что обитателям этих хибарок все выдается бесплатно, то есть из милости, благодетельным государством, то есть Управлением: и дощечки ящикотары, и ржавая жесть, и обломки шифера, и глина для обмазки, а что им не выдано, то ими украдено у государства, то есть у того же, опять же, Управления, благодаря его снисходительному попустительству.
Самое удивительное: как и откуда появился Витька, вспомнить было еще труднее, чем последующие безумные, а точнее — немыслимые эпизоды, и у Иридия Викторовича всякий раз было полное ощущение, что эпизод этот, подобно всей его жизни, не имел начала и не будет иметь конца.
* * *
Эпизод первый. Крошечный Иридий Викторович вечно и безнадежно бредет за Витькой по каким-то мерзлым буграм (впоследствии он никогда не мог обнаружить ничего подобного на своей малой равнинной родине), его шубка, будто свалявшимся войлоком, обросла смерзшимся снегом, нос горит, ободранный от беспрестанного вытирания заледенелой гремящей рукавичкой, а Витька в ладном сереньком ватничке (белоснежное к нему не пристает) — только ледяные оборочки побрякивают — по-боевому, рывком втягивает сопли и покрикивает через плечико: «Что, уже разнюнился?», и вдруг, воткнувшись, как столбик, принимается за осмотр Иридия Викторовича. Он осматривает его, как старшина-сверхсрочник очкастого новобранца из студентиков. «Б-богач!» — до слез обидно, но справедливо цедит он. Деваться некуда: лягашская шубка вместо достойной куфайки (обитателей Управления Механка именует лягашами), штаны без единой заплатки и притом не подвернутые. Не отопрешься.
Витька стаскивает с ручонки Иридия Викторовича позорную вязаную варежку в цветочках: «Смори, у тебя ямочки на костяшках, а должны быть во какие!» Иридий Викторович безнадежно (нельзя завидовать недостижимому) смотрит на костляво-ухватистую багровую лапку — и потом класса этак до пятого старается прятать под парту свои прелестные ручонки с ямочками, безнадежно провожая взглядом руки жилистые, в цыпках, в зеленке — словом, такие, какие должны быть. А Витька тем временем без церемоний запускает ему свою обезьянью лапку в штаны и, удостоверившись в своей правоте, злобно хохочет: «Так я и знал — в чулках!» Иридий Викторович уже и не горит от стыда — не может гореть пепел, но долго еще и невыносимо страдает от этих сгубивших его молодость чулок, пристегиваемых к лифчику (даже на резинках ему их носить не дозволялось!) — как будто только кровообращение у него есть, а души нету. Когда класс шел на рентген, Иридий Викторович, леденея, всегда ухитрялся незаметно стащить с себя гадский лифчик и, скомкав, запихать его в самую темную щель. А потом еще нужно незаметно вытащить…
«Чулки… Как баба!» — хохочет ему в лицо Витька, заполнивший весь мир. Бабами он называет девочек, начиная с грудного возраста, а настоящие бабы — это «техи» или «теханы».
«А у меня — смори!» — он горделиво достает из широких подвернутых штанин недосягаемо лиловую голую ногу. «Давай сейчас встанем здесь и будем всю ночь стоять — спорим, тебя будут искать, а меня нет!» — добивает он и без того убитого Иридия Викторовича. А что тут скажешь — конечно, будут. Даже сейчас страшно подумать, что делается дома, пока он тут… Хорошо еще, что думать он сейчас не в силах.
Наконец Иридий Викторович кажется Витьке достаточно добитым, и он, сменяя презрительное негодование на брезгливую милость, принимается растолковывать Иридию Викторовичу, что означает плохое слово на букву «е». Все это необыкновенно тоскливо: у баб чего-то там нету, и почему-то Иридию Викторовичу должно быть до этого какое-то дело. Потом какая-то неведомая «она» для чего-то ложится, ты что-то куда-то ей зачем-то должен…
С бОльшим подъемом Иридий Викторович ознакомился бы с инструкцией по ремонту швейных машинок. Но одна подробность почему-то привлекла его внимание: после всех многосложных и нелепых манипуляций через девять месяцев — в этой цифре Иридий Викторович навеки уловил нечто грязно-подхихикивающее — оттуда же вылазит ребенок. Как ни мал и прост был Иридий Викторович, он уже знал, что ребенок — это что-то очень миленькое и чистенькое, а здесь, после этих похабных девяти месяцев, ребенок тоже становился существом грязным, уличающим кого-то в чем-то постыдном.
И Иридий Викторович под сгустившейся зимней тьмой еще целую вечность брел за энергичным, словно преследующим кого-то Витькой, безнадежно упрашивая: ну давай — и бесхитростно повторял плохое слово на букву «е».
«Тебе уже сто раз объясняли — без бабы нельзя», — изумлялся его бестолковости Витька, но что-то заставляло Иридия Викторовича через некоторое время снова повторять свою просьбу: при всей многосложной нудности описанной процедуры что-то заставляло Иридия Викторовича так ужасно выражаться, только он еще не знал, что выражается.
Узнал он это лишь тогда, когда на мамином лице вспыхнуло непритворное (тут он никогда не ошибался!) отвращение и гнев — и Иридий Викторович в отчаянии понял, что теперь он для мамы погиб навеки.
Правда, его кошмарное отсутствие после этого громового слова было немедленно забыто. Но лучше бы уж его нашлепали — только без отвращения. Девять месяцев оказались невообразимо более грязной цифрой, чем он предчувствовал.
Невзирая на явную туповатость своего ученика, Витька во время своих внезапных возникновений не уставал приобщать Иридия Викторовича к самым сладким таинствам любви. И может быть, рано или поздно все заскользило бы как по маслу, если бы можно было слушаться кого-то одного. А то если в одно ухо тебе захлебываются: кайф, кайф! — а в другое: гадость, гадость…
* * *
Эпизод одиннадцатый. Лето. Оба участника заметно постарше. Иридий Викторович держится побойчей — пытается иной раз даже осторожненько выразиться, правда, на буквы самые невинные — на «гэ», на «жэ» (словом, относящиеся к желудочно-кишечным и мочевыводящим, но не к половым отправлениям — на Механке эти буквы вообще считаются вполне легальными), а уж Витька выражается на все буквы сразу — и на «хэ», и на «пэ», а что касается буквы «е», то на свете, кажется, нет ничего, что с нее не начиналось бы. Фрейд был бы изумлен, обнаружив в Октябрьском столь ортодоксального своего последователя. В данную минуту Витька повествует о злободневнейшей политической новости — антисоциалистических венгерских событиях. Оттуда только что вернулся Колян, друг Толяна — старшего Витькиного братана. Самым ярким, а точнее — единственным впечатлением освободителя Венгрии было следующее: венгерка, как русского солдата увидит, сразу снимает штаны и ложится. Словом — весело.
Иридии Викторович внезапно и очень глубоко икает. Витька настораживает ноздри: «Беляши ел?» (ничего от него не скрыть!) — и расслабляется: «Хорошо бы сейчас штук шесть…» Они приближаются к прудику, который, как все в Октябрьском, служит заводу (а завод служит Управлению). Надо ли говорить, что купаться в этом пруду (а другого в Октябрьском нет) Иридию Викторовичу строжайше запрещено — но этого-то, в отличие от многого другого, ему и не хочется: мазут плавает целыми полями, а вдоль берега возлежит кольцом, как насытившийся удав; жирная, полуметровая тина на дне нашпигована всякой заводской всячиной — шестеренками, колесиками и черт еще знает чем, да еще подгулявшие парни по вечерам кидают туда пустые консервные банки и специально для этого разбитые бутылки (когда ни пройдешь мимо, какой-то пацан обязательно сидит на берегу и, в окружении любопытствующих, выдавливает из распоротой ноги кровь с грязью — а остальные продолжают весело барахтаться). Витька, который торчит в пруду безвылазно, а при нужде отправляет туда и нужду, рассказывает, что в котлован (так его именуют на Механке) бросают также дохлых кошек, и он сам лично бросил туда не менее восьми штук.
На бережке действительно затянуто мазутом нечто, напоминающее трупик кошки, разбросаны какие-то зловещие ржавые каракатицы — бракованная продукция завода (ни одна душа на Механке не знает, ни для чего она предназначена, ни чем она отличается от небракованной; Витька же всякую неизвестную деталь называет сиксилятором). На противоположной стороне, присевши на корточки, какая-то женщина тяжко ухает по воде ватными штанами, которым мазут, по-видимому, не страшен. Витька окликает ее: «Тетка, п… видно». Иридий Викторович вздрагивает, но, прежде чем потупиться, успевает бросить проницательный взгляд — увы, Витька солгал. Тетка поднимает голову и спокойно отвечает: «Ты из п… вышел — в п… и смотришь». И продолжает ухать дальше, вызывая мазутные цунами.
Купаться сразу не удается — в котловане есть только одно место — метра три на три, — где им по грудь, и каждый раз приходится подолгу отыскивать его заново, погружаясь в опасную вонючую тину по колено, а в воду только по… О такой глубине Витька выражается на букву «я». Внезапно Витька цепенеет, словно прислушивается к чему-то с дураковатой тревогой. Иридий Викторович застывает вместе с ним. Через полминуты Витька оживает, и по лицу его расплывается блаженство: «Воду погрел. Надо же постять», — это не слишком хорошее слово в Витькиной семье произносят необычно, хотя и громогласно. Но блаженство быстро сменяется опасливой радостью, и Витька погружается опасливо-предвкушающей физиономией в подогретую им воду, и клубы грязи вокруг него начинают расходиться с утроенной силой. Восстает из грязи он с находкой — к ловцу и зверь: он торжествующе поднимает над головой резиновый мешочек, вялый и бледный, как картофельный росток.
Прежде всего Витька хочет показать его тетке, но та уже свое отхлопала, и он, кое-как вытряхнув воду, с восторгом надувает мешочек, превращая его в тусклый полуметровый палец (грязные капли бегут по внутренним стенкам, внушая на будущее Иридию Викторовичу, что истинное содержание таких мешочков — это грязь), а во время передышек, губами, оторвавшимися от бескровного устьица, разъясняет Иридию Викторовичу, как называется этот предмет. Витька называет его звонким нерусским словом на букву «гэ», но Иридию Викторовичу слово это знакомо: он давно видел, как большие мальчишки запускали в небеса подобные пальцы, для шику насыпав туда сухого гороха (пальцы, правда, никогда не взлетали), и называли их именно этим словом. Наивный Иридий Викторович тогда же попросил у мамы купить ему такую же штуковину на букву «гэ» и в очередной раз был повергнут в ужас маминым гневом и отвращением: «Как тебе не стыдно!» Да стыдно же ему, стыдно — он только никак не может научиться испытывать стыд заранее, когда еще не знает, что его положено испытывать.
Через много лет, делая попытку овладеть культурным наследием, Иридий Викторович принимался читать Щедрина, на которого любил ссылаться Владимир Ильич Ленин, и с неудовольствием обнаружил у него кафешантанную певичку Бланш Гандон. Иридий Викторович неспроста недолюбливал литературу и литераторов — они вызывали у него впечатление затянутого сумбура, все старались размазать и запутать, вместо того чтобы разъяснять и упрощать. Жизнь и так-то чересчур запутана…
Читать Иридия Викторовича папа выучил по букварю 1933 года (слово «Учпедгиз» навеки осталось колдовским), и он, часто сиживая в одиночестве, не раз перечитывал — без радости, но зато и без душевной сумятицы: «Нас окружают повсюду враги. Красная Армия, страну береги!» Ясно и понятно маршировали упрощенные, черно-белые красноармейцы, коренастые, головастые, похожие на карликов, отдавали кому-то честь такие же карликоватые пионеры, белые капиталисты-карлики измывались над карликами-неграми: «Том беден. Том работает на Смита. Нет силы у Тома. Том упал. Смит бил Тома. Том наш друг. Смит наш враг». В сущности, такой и хотел бы видеть литературу Иридий Викторович — его всегда манила ясность и безоговорочность: друг так друг, враг так враг, стыдно так стыдно, а не стыдно — так не стыдно. Но ясность и бесспорность достижимы, только если живешь в каком-то одном мире, слушаешься кого-то одного.
Переведя дыхание, Витька тоже предпринял тщетную попытку запустить воздушный шар, носящий имя французской певицы, но — рожденный ползать летать не может, и Витька принялся растолковывать Иридию Викторовичу земное назначение мешочка: надо его надевать на нужную букву, а то если нечаянно ей постятъ в то самое, чего у нее нету, то почему-то придется на ней жениться, а этого не следует делать ни при каких обстоятельствах — Толяна одна хотела заставить, но где села — там и слезла.
И тут появился Сенька Окунь — их ровесник, но жирный, здоровый, похожий на трепанного жизнью мужлана с горбатым, как бы перешибленным носом. Иридий Викторович с надеждой поприветствовал Окуня, но Окунь его в упор не замечал, хотя своим скептическим присутствием, сам о том не догадываясь, всегда временно проветривал голову Иридия Викторовича от адского угара, наводимого на него Витькой: Окунь обо всем спрашивал презрительно: «А ты откуда знаешь?» — и сразу же становилось ясно, что никто ниоткуда ничего знать не может.
О тусклом пальце имени французской певички Окунь сразу же спросил обличительно: «А ты откуда знаешь? А может, он и не для этого?» — и Витьке осталось только притворно хохотать да поскорей выбираться на берег, подальше от очищающего ветра научной мысли. А Сенька еще и бросил ему вслед: да они и называются не так, надо — про-зер-ва-тив.
На берегу Иридий Викторович, стараясь не думать о мазутных щиколотках, за которые дома еще предстояла расплата, начал отжимать на себе трусики, выкручивая свободные излишки, а Витька спустил свои паруса до колен и принялся закручивать их между ног, сверкая жесткими фасолинами. «Девчонка!» — испуганно толкнул его Иридий Викторович, на что Витька ответил с полной невозмутимостью: «Если посмотрит — ей же стыдней будет».
Если бы всегда держать Окуня под рукой… Когда они с Витькой шли с котлована (Иридий Викторович был доволен, что не показал себя бабой, выкупался, стойко выдержав положенную дозу омерзения, выдаваемого за удовольствие; с мучительной завистью он уже начинал догадываться, что такое счастье: это умение с наслаждением барахтаться в грязи), им навстречу попался главный инженер — седенький, грустный, выслужившийся из ссыльных, самый культурный человек в Октябрьском. После пятьдесят шестого года статус бывшего ссыльного сделался дополнительным признаком культурности, но главный инженер и до того котировался высоко из-за того, что обычный шарф называл словом «кашнэ».
— Здравствуйте, Ефим Семенович! — помахивая надувным французским пальцем, нагло выкрикнул ему в лицо Витька, словно имя главного инженера было похабной кличкой.
Главный инженер оторопело дернулся, но, справившись, раскланялся с преувеличенной любезностью, втройне нелепой по отношению к Витьке с его невесомым, но смертоносным орудием, окропленным изнутри грязным семенем. «У него не стоит!» — торжествующе продышал в ухо Иридию Викторовичу Витька, и Иридий Викторович навеки постиг, что ничего позорнее быть не может: в Витькином голосе не было зависти, всегда присутствовавшей во всех его рассказах о всевозможных свинствах, безостановочно творимых человеческим родом.
Иридий Викторович навеки усвоил: можно быть трусом, жмотом, жуликом, последней сволочью — все это мелкие шалости, а может быть, и тайные, для посвященных, доблести. Но если у тебя не стоит — этому и в самом деле нет прощения. Только тут людское презрение — не наигранное.
А был бы рядом Сенька Окунь — он прохрипел бы презрительно: «А ты откуда знаешь?» — и весь морок…
Но собственного скептицизма у Иридия Викторовича катастрофически недоставало — он всегда беззаветно полагался на авторитеты. А авторитет был непреклонен: ты можешь стать главным инженером, Героем Советского Союза, генералом или Генеральным Секретарем, но любая напыщенная формула — «весь советский народ с благодарностью повторяет имя такого-то» — это тусклый пузырь в сравнении с чеканной ухмылкой «у него не стоит», а поддельные добродетели для простаков — честность, трудолюбие, доброта — делают его лишь еще более презренным, если он лишен главной, а точнее — единственной доблести. Иридий Викторович так и не догадался поставить на место глас народа — миллионноголового Витьку — простым и тоже чеканным вопросом: «А ты откуда знаешь, что, где и у кого стоит?» Ведь если вдуматься, и в самом деле, никто ни про кого ничего не знает. Но попробуй, вспомни об этом без посторонней помощи.
* * *
Эпизод двадцать четвертый. Иридий Викторович подглядывает в женскую баню, не замечая ни мучительнейшей боли в коленках, на которых он, подобно святому столпнику, балансирует на узеньком подоконничке, ни, тем более, того, что происходит в банном тумане: от ужаса туман в его голове гораздо непрогляднее банного. Если поймают или хоть заметят — конец, придется топиться в котловане вместе с дохлыми кошками. Но мужской долг требует выстоять какое-то минимальное время на этом бруствере: сзади заградотряд — Витька караулит якобы от прохожих.
На грани жизни и смерти Иридий Викторович наконец спрыгивает с бруствера и падает — ноги не держат, но Витьке некогда смеяться — он вспрыгивает на подоконник и распластывается на стекле в коленопреклоненной позе. Иридий Викторович отступает подальше — якобы желая лучше видеть опасность. Сейчас, если его даже узнают, может быть, топиться уже не потребуется — не он же смотрел…
А героическому Витьке никак не насытиться… Спрыгнул наконец, быстро двинулись во тьму. Витька рассказывает возбужденно, однако без захлеба: ты заметил, у биологички уже волосы есть седые на п… — значит, старая уже, в научных книжках так и пишут: «старость наступает тогда, когда в передней полости седеют волосы», а Танька уже оперилась, пушок уже нормальный, как у Толяна усы, а рот с усами, правда, похож на п… ? Витька внимательно ведет учет, кто оперился, а кто еще нет, разнося во все концы презрение к неоперившимся соплякам (у Иридия Викторовича, против ожидания, с оперением обстояло более чем благополучно — лучше, чем у Витьки, к его изумлению).
Иридий Викторович в состоянии понимать только одно — пронесло. Но интонацию он всегда фиксирует безошибочно: в Витькиных словах звучит не злорадное хихиканье, как обычно, а простой человеческий и даже отчасти сочувственный интерес к возрастным признакам биологички, а по отношению к ее дочери, их однокласснице, Таньке — вы не поверите, но это так — да, да, именно неумелая нежность. К этому добавляется еще и капелька тоскливой зависти: хорошо, когда одни бабы вместе живут — все видят друг у друга… Чуть ли не впервые Витька не употребляет слова на букву «пэ». Отзвук этой завистливой нотки — если уж Витьку проняло! — никогда не умолкает в душе Иридия Викторовича, как бы нашептывая ему, что именно постыдность наготы позволяет ей сделаться знаком доверия для избранных. Но Иридий Викторович никогда не умел вдумываться в разные внутренние шепоты — он предпочитал слушаться старших.
Зато, когда он улегся в постель и ужас немного отпустил, обнаружилось, что глаза, без его участия, кое-что впечатали намертво и он может перелистывать отпечатки, словно альбом с семейными фотографиями, неспешно разглядывая и покорную биологичку с тазиком, к которому, как овечки на водопое, свисали две унылые сиси, и Таньку, очень розовую, с острыми тугими ягодицами, на которых светились два насиженных румяных пятна. Впоследствии, без особого усердия овладевая азами демократической культуры, Иридий Викторович наткнулся у Белинского на фольклорную цитату: у какой-то былинной красавицы что-то там было белое, как снег, а зато ягодицы — будто маков цвет. Это было единственное во всем культурном наследии, что по-настоящему поразило Иридия Викторовича — сколь небанальными и интимными были критерии красоты в древней Руси! Но потом в комментариях он обнаружил, что ягодицы — это, наоборот, щеки. Вот за это Иридий Викторович всегда и недолюбливал литераторов — все они чего-то мудрили: и ягодицы у них не ягодицы, и Гандон не презерватив.
А Витька в присутствии сфотографированной им Таньки явно становился растерянным, старался как-нибудь услужить ей, но — переставая быть наглым, он делался дураковатым, и Танька, вздернув носик, по-прежнему не желала его замечать, как будто это не у нее все-все видели. Но, как ни странно, так оно, похоже, и было: и видели будто не они (не Иридий Викторович, по крайней мере), и не Таньку с биологичкой — альбом с фотографиями хранился в одном мире, а оригиналы жили как будто в другом, где были тычинки, пестики, вакуоли, но не было места ягодицам и оперению.
Вот так, по-видимому, и полагалось вести себя взрослым: сначала все делать, что положено, а потом жить так, будто это был вовсе и не ты. И не просто делать вид — на самом деле верить, что твоя же собственная память рассказывает не про тебя.
Продолжение следует…