Эксклюзивно для гУрУ и его читателей! Галина Калинкина, писатель, автор десятков рассказов, новелл и публицистических эссе, четырёх повестей и одного романа, обладатель нескольких международных литературных премий, автор журналов «Юность» и «Этажи», делится с нами отрывком из своего нового романа «Лист лавровый в пищу не употребляется».
Теперь у закопченного храма Петра и Павла в Шелапутинском переулке набрел на свежее пепелище; ночью барак сгорел. Нету Лахтиных. Погорельцы уже оплакали происшедшее и бродили по пепелищу, выискивая возможное ко спасению. Пожарная команда оставила потоки чёрной воды, милиция снимала оцепление. Тесными московскими переулками вместе с разреженными клубами дыма и запахом ночной гари расползались слухи:
— Поджог, вот те крест, поджог!
— Третьего дня в Малом Гаврикове знатно полыхало.
— Одно к одному…
— Там-то пакгаузы с провиантом. А тута чаво?
— Чаво, чаво… В корень зри. Охрана сама и спалила.
— Проворовались?
— Следы замели!
— Всё-то вы знаете…
— Да, сами посудите, нажились, а отвечать не хотца.
— Так и бывает завсегда. Огонь пожрёт.
— А наш барак-то причем?
— Так Гаранин-то?
— На Казанке служил…
— Вот, батенька! И я о том.
— О чем?
— Экий Вы. В первом пожаре, должно, не без Гаранина обошлось.
— А нынче ночью видел ево хто?
— В том-то дело и есть. Никто не видел.
— Ивановы где?
— Тута где-то бродють. Лыськову в лазарет свезли.
— Кузовлёв-старшой в морге, малые ихние разбежались…Бяда.
— Ныне у всех беда.
— Гаранина кто видел?
— Чего пристал? Милиции то дело.
— Тело в участок свезли. Неопознанное.
— Аккурат со второго этажа, в углу.
— А Лахтиных видел кто?
— Лахтиных?..
По разговорам, Улита месяц как съехала куда-то в Рязанскую волость. Должно, живы они с Даром. Любопытствующие не расходились, глазели на девчушку, воющую у забора, на собирающих скарб среди обломков, на почерневшие стены храма.
— Глянь, церква-то обуглена стоить.
— Неспроста. Кара Божья.
— Божие посещение.
— Да, вы чего Господа в поджигатели записали?!
— Перебежчики оне, вот им за то и…
— Ага, перевёртыши.
— Непоминающие в клире тутошном.
— Каки непоминающи?! Живоцерковники тута.
— Храпоидолы.
Уже собираясь уходить, возле кучи обгорелых досок наступил на одну и ступнёю будто ожёгся. Вернулся на шаг и из мутной жижи выловил досочку расписную. Отёр ладонью. Взыскательно в него всмотрелась Матерь Божья. Оглянулся, хоть у девчушки спросить: чья потеря? Но у забора никого. Милиция и зевак разогнала.
Трамвай у Курского вокзала брали с боем, две остановки Лавр провисел на подножке и лишь на третьей удалось протиснуться вглубь моторного вагона; то же и в прицепном. Бережно к сердцу прижимал образок под свитером. Рядом пассажиры сплошь с мрачными лицами, лениво бранятся. Скрип деревянных конструкций и грохот железа по рельсам перекрывал зычный голос немолодой кондукторши. Лавру, подчинившемуся общей заторможенности в тряске, тоже не с чего веселиться. Дорога, как и лестница, – всегда пауза между тем, что было и будет, промежуток, момент безвременья, когда от тебя ничто не зависит, как будто и нет тебя самого. Сиди, стой, трясись и клюй носом. Пропала Улита. И брата нет. Живы ли? Евс уехал. Родители в земле. Под прошлым будто провели нестираемую черту: никого у тебя теперь, корсак. Жить тебе одному. Куковать, вековать, бобылить. Даже Буфетовы звать к обедне перестали. Никого? А Матерь Божья под сердцем?
Кулишки проехали, Немецкую слободу. Трамвай тащился всё медленнее, выдыхаясь на длинном маршруте. Тускнело небо. Фонари на крыше вагона слепо шарили в сумраке при поворотах. Чем дальше от центра, тем меньше народу подсаживалось, больше сходило; остановочные павильоны пустовали. Кондукторша теперь дремала на перегонах, но вскидывалась при торможении и зорким взглядом выхватывала необилеченных. На подъезде к Хапиловке, Лавр услыхал разговор двух парней, с виду железнодорожников. «Вон, видал, надысь тут горело». «Малый Гавриков, что ли?» «Поджог, сказывали». «Ясно дело. Буржуи жгуть». На Большой Почтовой и те двое сошли. Почти в темноте трамвай свернул в узкую кривенькую улочку, нещадно скрипя деревянным остовом. Затормозив со скрежетом на безлюдной Малой Почтовой, состав встал. Здесь вместо остановочного павильона устроена высокая лавка под мощным меднолистым дубом. И прежде, чем трамвай снова двинулся, перед глазами трех человек: вагоновожатого, кондукторши и пассажира с задней площадки начало происходить что-то тревожно-непонятное. Через высокий сплошной забор на лавку к дубу свалился паренек в расстёгнутом тренчкоте и кубарем скатился под колеса вагона. Попытавшегося подняться свалил мужик в косоворотке, перелезший через забор вслед за парнишкой. Тут же к ним ринулся третий, зацепившись полами шинели за частокол. Косоворотка и шинель молча колотили тренчкот. Парень также молча отбивался от мужиков, но начал сдавать, отступая ближе к трамваю. И в плотной тишине слышались глухие страшные удары, ни слова. В голове у Лавра промелькнуло: «Забьют». И дальше, одновременно все трое невольных свидетелей сообразили одно и тоже: спасать надо. Лавр, не сходя с подножки уцепил парня за воротник куртки, перехватил за подмышки и кулём перевалил себе за спину. Пока сам отбивался от мужика в шинели, рванувшего на неожиданную помеху – долговязого пассажира, кондукторша втянула парнишку глубже внутрь вагона, дёрнула за шнур, ещё и ещё раз, подавая сигнал: двигай! А водитель, выдав электрической трещоткой резкий треск, рванул состав с остановки. Мужики с минуту тяжело бежали сбоку, но тут же и сдались.
Лавр закрыл дверные «гармошки»-створки и уселся на своё место. Парень, сидя на полу, утирая кровь на лице и держась за отвалившийся от проймы рукав, расхохотался. Над ним участливо склонилась кондукторша и протянула косынку с шеи.
— Утрись. Без билета провезу. Далёка тебе?
— Сспаси Христос! Ммне в Ппоследний переулок.
— Ишь ты! В другую сторону катим. Кровищи-то…За что тебя?
— Я физиологически нне ппереношу вранья.
Лаврик, уткнувшийся в вагонное стекло, развернулся и бросился к парню, поднявшемуся с пола.
— Костик!
— Ллантратов?!
— Котька, милый мой, Котька. Евс мой дорогой!
— Ппогоди, не жми так, сспаситель. Намяли мне. Ввымажешься.
Кондукторша уселась на высокое место и устало глядела на двоих молодых бородачей, обнимавшихся и тискавших друг друга. Потом пошла к кабине. «Прокопыч, ты ж две остановки промахнул». «Теперь до парка никого не будеть. Что там?». «Целуются». «Вот только что душу Богу не отдал, а уже целуется». «Не гони так, Прокопыч, ноги гудут».
Вернулась в хвост вагона.
— Эй, знакомцы. Сходить будете? На разворотное кольцо идем.
До Богородского добрались быстро. У развилки повезло встретить попутку. Телега со свиными тушами, уложенными поперёк, шла на салотопленный завод за Екатерининским акведуком. На ней и поехали, сидя в обнимку, ногами качая, как на краю сарайной крыши, холодя спины о ледяные, ноздрястые свиные рыла. Возница и напарник его в охране переглядывались и удивлялись двоим болтливым пассажирам. Длинный крестился в темноту, а другой, шустрый, живенький, кривился, за ребра хватался и стонал. Чудныя…
— Тты знаешь, день ккакой сегодня?
— Хороший день. Я жить начинаю, Котька.
— И мне ххороший, спасение принял. Ссегодня же четверток! Отец сстрашно рад ббудет гостю. Едемте, Ллантратов, едемте! Я Вам ккофе по-турецки сварю.
— И без кофе рад Леонтия Петровича видеть.
— Ввот и славно. Мы введь чего ппереехали… Ммаму схоронили. И в слободке больше жить не смогли. Вот ттеперь у отцовой ттётки живем. А четверги сошли сами ссобой.
— Не знал про мать. Покой Господи, душу усопшей рабы Своей.
— Ттвои где? Когда вернулись?
— Один вернулся. Схоронил родителей.
— Пприми их, Господи. Женат?
— Холост. Ты что ли женился?
— Что ты, Костя Евсиков не скоро обручится. Ох, ох, любезный, выбирай ддорогу-то, на кочках аж дух заходится.
У Буфетовых Евсу отмыли разводы запекшейся крови, перевязали разбитую руку, подшили по пройме рукав тренчкота. Отпускать не хотели, но советовали всё ж в больничку. А Костику зачем в больничку, когда дома отец лучшим образом осмотрит. Дьякон Лексей Лексеич так и ахнул, увидавши образок: ««Похвалы Божьей Матери», ветковская, на тополиной досочке. Вот дар-то какой тебе, Лаврушка».
В Большой дом забежали на минуту, икону пристроить. Костик с видимым удовольствием бродил по комнатам, крестился на знакомые образа, рассматривал позабытые предметы: часы напольные, бившие прежде приветственным боем; барометр, где из домика вышел горожанин, а жена его показала спину; чернильницу с гусляром; вазу Галле с чёрной хризантемой; лудильный инструмент с припоем; карту мира, довоенную. Бирюзовые шторы из дамаскина даже потрогал: не снится ли ему. И не замечал, как у Лавра нарастает изумление на лице. Потом и увлеченному чужим домом Костику невозможно стало не разглядеть странного поведения хозяина. Тот быстро-быстро туда-сюда заходил по комнатам, потом застекленной верандой поспешил мимо девичьей в кухню. Костик за ним.
— Обоккрали?
— Наоборот. Ничего не понимаю.
— Что ппроисходит?
— Вот и тут, и тут, гляди!
— Ппироги. С капустой, ккажется. Духовитые… Буфетовы подкармливают?
— Бывает, угощают. Но сейчас Лексей Лексеич ничего не сказал. Да и дом заперт. Ключи вот они.
— Ччудеса!
— Вот и я себе так сказал. Как вошли, сразу понял, что-то не то. Книжки стопочкой сложены, инструмент аккуратно разобран, я с янтарем иной раз работаю, заготовки из Риги привез.
— А сюда ччего прибежал?
— Форточка! Сегодня забыл закрыть, но с полдороги возвращаться не стал. К Лахтиным собрался в Шелапутинский.
— Вот Дар, ддолжно, женат уже.
— Ничего не разузнал. Барак их дотла выгорел.
— Жживы ли сами?
— В мёртвых нет, в раненых тоже. Добиться ничего вразумительного не мог – все всполошённые. Но соседи вспомнили, будто с месяц назад Улита с сыном на родину подалась. Селезнёво, деревня её.
— А кто ж тебя ппирогами-то потчует? Тут рука жженская чувствуется.
— Ума не приложу, веришь, Евс? И фортку-то отворенную с улицы не видать. Через сад, значит, в кухню пробрались.
— Странные воры! А ппирог наивкуснейший. Попробуйте, Лллантратов.
— Полы!
— Что пполы?
— Смотри, Котя, доска не просохла. Каустиком пахнет, щёлочью.
Погасили свет, печи не разжигали, затворили накрепко форточку, проверили все окна.
— Это не ккаустиком, Лаврик. Пповерь мне, здесь пахнет чувством.








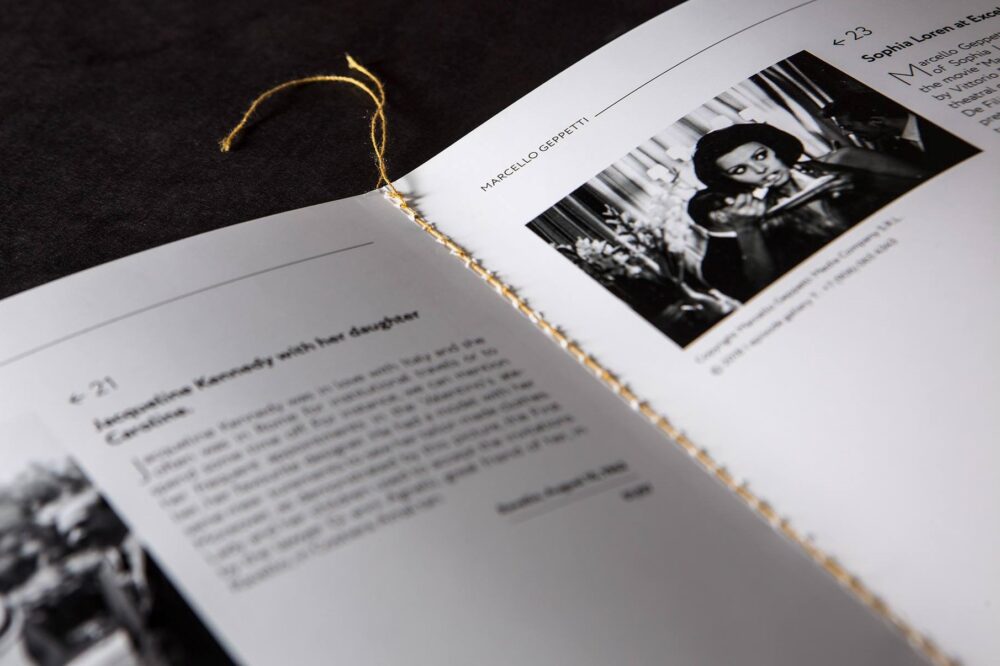









Удачи «Листу»!