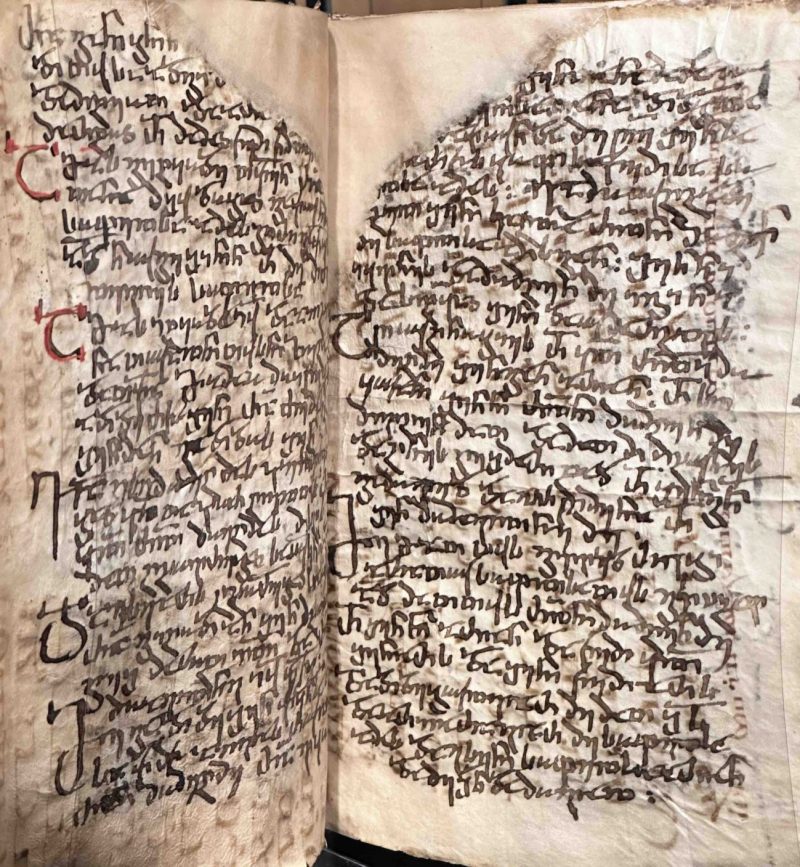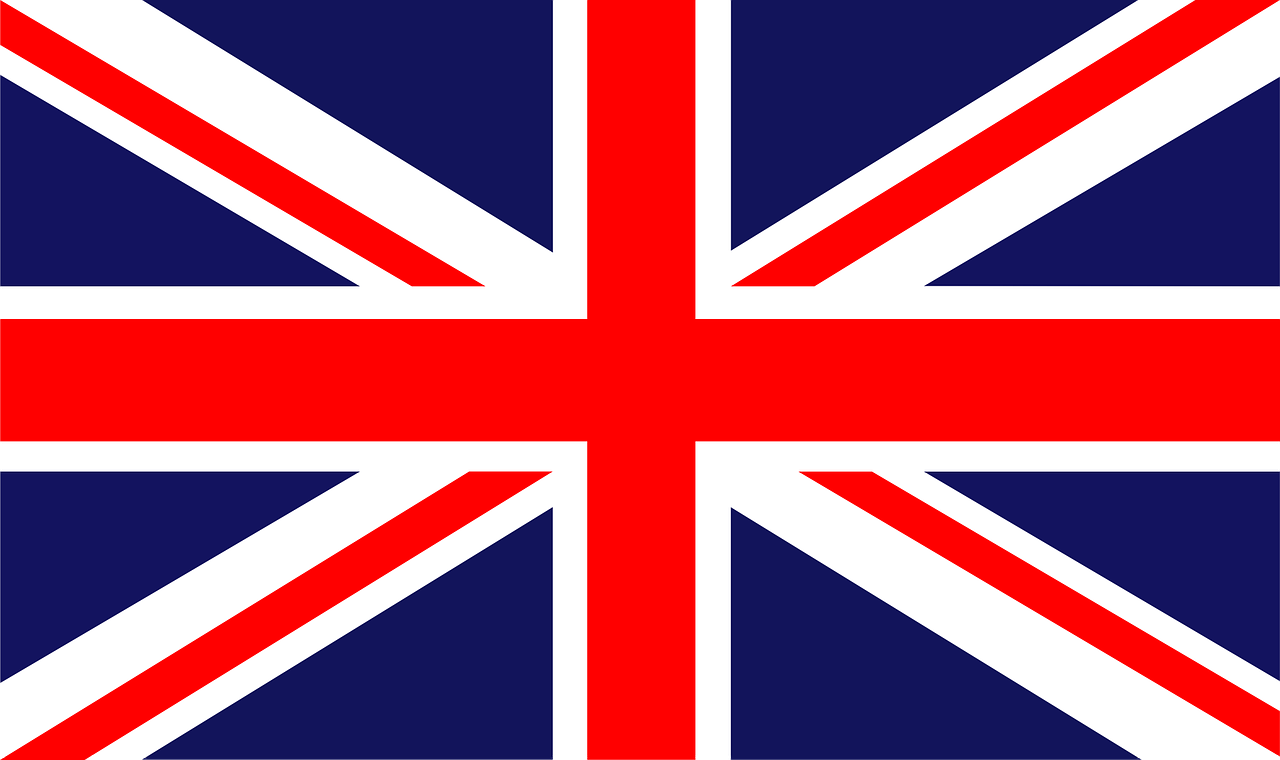Ей уже давно за сорок. Внучка пошла в детский сад, и первые обиды, первые боли начали работать над душой девочки.
Что заложат они? Злостью, жестокостью будет отвечать она людям на злость и жестокость? Или в себе затормозит, остановит их, переработает в добро и окружающим это добро подарит?!
Чем может она, бабка, помочь? За внучку её жизнь не проживёт.
Есть ли в самой внучке сила, способная остановить жестокость и беду, без столкновения с которыми никто не проживает свою жизнь?
Прошлое не прошлое, оно — настоящее, часть души, всегда при человеке, но как сердце людям не видное. Может быть, её прошлое поможет внучке понять, как выжить при встрече с жестокостью?!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В их комнате поселился громкий голос, каждый день он повторяет одни и те же слова: «На Н-ском направлении наши войска отошли на заранее подготовленные позиции» или «Рядовой Федорчук (Иванов, Мурзаев…) из автомата убил сто восемьдесят (сто пятьдесят) немцев»… Никуда не спрятаться от этого голоса.
А когда голос молчит, звучит музыка. Не та, от которой весело, а та, от которой обессилевают ноги.
Изменилось в их жизни всё. Мама увезла её из леса, где руководила практикой.
Каждый год она возит своих студентов и Соню в лес. В четыре утра будит их всех, гонит на посты — нужно наблюдать за птенцами, кормить их, взвешивать, измерять. Всю зиму Соня помнит прожорливых, на глазах растущих птенцов, песни и костры. Костры до неба. Добрый огонь оранжево, радостно трещит, плюётся искрами, пахнет смолой, свежими огурцами, греет.
И вдруг вместо птенцов, мха и песен вокруг костра — пыльный Ермолаевский и душная квартира. Яркие лампочки мама вывернула, на окна налепила чёрные полосы бумаги, без щёлочек, и теперь нельзя сидеть на подоконнике и разглядывать деревья на Патриарших прудах, птиц, прохожих, машины. Гулять с Соней, читать ей мама перестала, атласов не открывает, по городам и странам с ней не путешествует, не плавает по морям, в гости к феям не зовёт. И даже не просит её закрыть глаза, представить себе солнце вместо дождя, вместо холода — тепло. Мама перестала смеяться. Покормит Соню и сядет с книжкой.
А Соня рисует костёр. До неба. С искрами, с цветами, рассыпающимися в огни, с оранжевыми лицами мамы и студентов. Но тепла от её костра нет. И запаха нет. Не может она никак передать этот свежий, вкусный запах смолы и огурцов.
Родя собирался после института поступать в аспирантуру и не стал. Пошёл куда-то работать. Видимо, работа эта — опасная, потому что мама даже книжку читать не может, даже Соню не видит, ни её рисунков, ни её обедов для кукол из рисинок и крошек, ни того, что Соне холодно и скучно, только всё к шагам в подъезде прислушивается — когда Родя постучит?
С Родей Соня почти не встречается, он приходит всегда ночью. Лазить по деревьям её не учит, как обещал, не катает на плечах, стихи про капитанов и джунгли, про любовь и золотистое солнце не читает. И не читает ей по-немецки Шиллера и Гёте. А Соне очень нравится, как он их читает. Закроет глаза, порозовеет щеками, точно у костра очутился, первые слова произносит тихо, таинственно, а потом всё громче и громче.
Соня ни слова не понимает, а чувствует — что-то такое происходит в стихах, от чего можно бежать долго-долго, пока не упадёшь, и в холодную речку бултыхнуться, и плакать, и полететь. Соня знает это ощущение — лететь. Во сне она часто летает. А потом падает вниз — дух захватывает во сне. И, когда Родя читает ей Шиллера или Гёте, ей кажется, она вот-вот полетит.
А теперь он дома почти не бывает.
И с папой Соня не встречается. Папа тоже часто ночевать не приходит, такая у него важная работа. Папа очень нужен стране, ему даже телефон оставили, когда всем вокруг срезали. Папа звонит маме, когда остаётся ночевать на работе, чтобы мама не волновалась, потому что папин близкий друг, дядя Витя, с которым они всегда встречали Новый год, совсем недавно погиб во время испытаний. Вдруг и папа погибнет на своих испытаниях и никогда больше не придёт, как не приходит к ним дядя Витя? Папа обязательно звонит вечером и утром. Телефонный звонок — резкий, и Соня с мамой каждый раз вздрагивают.
— Слава богу! — облегчённо вздыхает мама. И тут же говорит о Роде: — Нет, не звонил. Нет, не приходил. Утром позвони, я спрошу у него, когда придёт.
Разговор один и тот же каждый вечер, и Соня может подсказывать маме слова.
Утром снова — о Роде, и снова Соня знает каждое слово.
— Он сказал, не знает. Он сказал, не скоро. Он сказал, программа тяжёлая, и пока не подготовят хорошо… — тут мама каждый раз замолкает.
Соня целый день потом думает, а что будет, когда хорошо подготовят, а что такое — программа? Однажды решилась спросить у мамы:
— Где Родя? Ты сама не пустила его к папе в физику, потому что опасно для жизни, а велела кончать институт по немецкому языку. С книжками можно дома сидеть! А его нет дома.
Мама встала и пошла на кухню. Сказала от двери:
— Будут и книжки. Терпеть надо. Война.
Имя «Родя» она даже не произнесла, точно боялась. Соня хотела пойти за мамой, да раздумала — что, если мама рассердится?!
Больше о Роде она никогда не заговаривала. Просила поиграть с ней.
Тогда мама послушно, как раньше, начинала придумывать игры или вырезать одежду для кукол или звала Соню в «страну дураков», или принималась рассказывать про Белого пуделя или Каштанку. Но Соне сразу переставало хотеться играть в игры, которые придумывала мама, потому что эти игры совсем и не игры — мама говорит слова сказочные, а сама в одну точку смотрит или на середине фразы бросает рассказ о Каштанке, и получается, что игры и рассказы виснут в комнате страхом, как слова из радио.
И радио заглушает маму: «Наши войска после кровопролитных боев отошли на заранее подготовленные позиции…».
В сентябре Соня пошла в школу. И сразу узнала от учительницы, что жизнь вовсе не игра, как она думала. «Нужен труд и нужно терпение, — объясняла учительница. — Если будете хорошо учиться, вырастете настоящими гражданами, полезными для своей страны». Соня любила свою страну, но делала для неё пока немного, то, что могла: громко кричала «Да здравствует Сталин!», когда мимо мавзолея проезжала на папиных или Родиных плечах, и махала руками, здороваясь с вождём! Она очень хотела вырасти полезной своей стране, а у неё не получались буквы — одна толще, другая тоньше, одна встаёт над линейкой, другая опускается под. И числа не всегда складываются и вычитаются. Соня очень старается, а всё равно так, как у Анощенковой, как у Пети, у неё не получается.
У Сони в классе двадцать человек. Половина — мальчиков, половина — девочек. Соню посадили с Петей. Петя — толстый, краснощёкий, очень любит писать. У него все буквы красивые, ровные, аккуратные, будто их нарисовали на праздник. И ни одной ошибки. Даже учительница удивляется:
— Ты, Петя, откуда все слова знаешь?
— Они сами так пишутся, — скажет Петя, покраснеет ещё больше, начнёт моргать — вот-вот заплачет, теряется от всякого внимания к себе.
А учительница подойдёт, погладит его по голове. Однажды стала хвалить:
— Удивительный ребёнок. Никогда такого не видела. Задачи сами решаются, слова сами пишутся. Только вслух почему-то не произносятся. Не бойся, Петя, попробуй, может, и говориться само будет? Надо же научиться разговаривать с людьми!
Петя опустил голову и неожиданно заплакал.
— Ты что, Петя? Разве я тебя обидела? — Учительница обнимает Петю, а он всё плачет.
У учительницы лицо становится таким красным, как Петины щёки, Соне её жалко. Учительница у них добрая, каждому что-нибудь хорошее скажет.
— Мне… папа… не велит говорить, он велит дело делать, — сквозь слёзы признаётся Петя.
Учительница легко засмеялась.
— Папа очень хорошо тебя учит: нужно хорошо делать своё дело. Только подумай: ты не будешь говорить, я не буду говорить, ребята не будут говорить — как же мы будем общаться друг с другом, кого же будем слушать?
— Радио! — воскликнул Петя.
— Ведь по радио тоже человек говорит! А если и он будет только слушать, откуда же мы узнаем все новости?
Очень удивился Петя. Вытаращил глаза. Правда ведь, не получается ничего.
— Это папа тебе не о школе говорил, Петя, — продолжала учительница, — а о том, как надо работать. Когда работаешь, тогда, конечно, нечего болтать. Ты, Петя, пойми, у людей единственное средство выражения мысли — слово. Я услышала то, что сказал ты, я прочитала то, что написал ты (это всё равно что сказал), и восприняла твою мысль. В ответ я выскажу свою. И у нас получится разговор. Понимаешь? Ведь работу тоже словом дают, правда? Ты скажи папе, о чём мы с тобой сейчас говорили.
Петя снова заплакал. Он плакал басом, а всхлипывал, как маленький, Соне стала гладить его руку.
— Что ты? — испугалась учительница. — Не надо, Петя, успокойся. Да как же это? Почему ты плачешь? Разве я обидела тебя?
— Папа на фронте… убили… совсем убили, — пролепетал Петя. — Я и мама…
Соня ничего не поняла.
Радио всё время говорило о том, что войска «понесли большие потери», но Соня не задумывалась, какие это потери. А теперь неожиданно сама поняла: потери — это Петин папа и другие папы.
Учительница прижала к себе Петю, судорожно глотнула, как-то неестественно выпрямилась, папа так выпрямляется, когда играют марш, и смотрит так, словно собирается идти далеко, вперёд и вперёд, не сворачивая.
— Это только начало, — сказала учительница, глядя непонятно куда, так глядела мама, когда услышала, что началась война.
И вдруг встала Анощенкова.
— На Москву идут немцы, — сказала. И очень громко: — Эвакуироваться будем, я знаю.
— Садись, Лина, — испугалась учительница. — Не надо об этом говорить.
Лина очень нравится Соне. Она — высокая, худая, с гладко зачёсанными волосами, заплетёнными в длинную, до пояса, косу. Отвечает всегда громко, складно и идёт от доски к парте чеканя шаг, как ходят по улице солдаты в строю. У неё, как и у Сони, папа на фронт не ушёл, но он не испытывает что-то, как папа, а работает на очень важной работе — обеспечивает продовольствием нашу армию. Лина каждый день приносит в школу бутерброды с икрой и колбасой. Она добрая девочка и даёт откусить всем, кто у неё просит.
— Почему люди не любят правду? — громко спрашивает Анощенкова. — Надо понимать реальную обстановку.
Соня с удивлением смотрит на Анощенкову и ничего не понимает.
Учительница, кусая губы, молчит, испуганно глядит на дверь.
2
В школе Соне нравится. Нет голоса из радио, маминого смотрения в одну точку. Когда учительница рассказывает о войне, получается — вроде она рассказывает об истории: война идёт далеко, не сейчас и не в их стране, и всё, что происходит, происходит не с ними, и их никогда не коснётся.
Но стоит выйти на улицу, как становится ясно: война здесь, совсем близко.
Самым главным местом для всех жителей района сделалась станция метро Маяковская. С Малой Бронной, с Ермолаевского переулка, с улицы Горького, с Садовой — отовсюду к ней бегут люди, как только раздаётся пробирающий до костей, протяжный вой и по радио объявляют: «Воздух!».
Особенно тяжело ночью. Мама не будит Соню, а начинает её, сонную, одевать. Если папа или Родя оказываются дома, они несут Соню в бомбоубежище. Соня вполне могла бы идти сама, но ночью ноги слушаются плохо, и проходит слишком много времени, прежде чем она просыпается совсем.
Кричат маленькие дети, плачут женщины… — сколько людей собирается на Маяковской! Сначала Соня сидит прижавшись к Роде или маме, а потом необычность происходящего, многообразие людей и вещей поднимают её с места. Она уже достаточно большая и достаточно воспитанная для того, чтобы не подходить к людям и не упираться в них любопытным взглядом, но пройти из конца в конец станции как бы разыскивая кого-то она вполне может. Идёт между тюками, матрасами, на которых жмутся друг к другу взрослые и дети, и разглядывает их.
На тощем тюке сидит старушка в кружевном воротнике и жакетке — в таком одеянии нарисована на портрете её бабушка. Прямо на полу неловко застыл дядя с двумя связками книг, туго-натуго перевязанных бечёвкой, ни еды с собой, ни вещей, только книги. А вот целое семейство: три женщины, очень старая, средних лет и молодая, сидят на широком лежаке, а четверо детей разных возрастов лежат валетами. Каждая из женщин и каждый из детей прижимал к себе тюк, у женщин тюки побольше, у детей — маленькие. Люди ― с собаками и кошками, мужчины с забинтованными руками и на костылях… — кого только ни увидишь тут! Но больше всего женщин и детей.
Соня ищет Петю или Лину Анощенкову или хоть кого из ребят, но ребят из её класса почему-то никогда нет. Звучат непонятные слова: «плен», «бежать надо», «немец лютует», «конец», «пытки», «к Москве идёт немец», но слова не задевают Соню, они скользят мимо, как и плач, стоны, мяуканье, ругань, воодушевлённые споры, тихие и грустные песни, храп.
Однажды ни папы, ни Роди дома ночью не случилось, а они с мамой проспали первый вой сирены. Когда окончательно проснулись и выскочили на улицу, над их головами с жутким гудением носились самолёты. Небо полыхало, освещая дома и Патриаршие пруды.
Мама прижалась к двери подъезда. Соня прижалась к маме. Казалось, никакая сила не может оторвать их от дома.
Никого на улице не было.
Ни шагнуть обратно в подъезд, ни двинуться в сторону метро недостало сил.
Небо было нарядное. Вспыхивали разноцветные огни, их было много, они гасли, но тут же другие, ещё более красивые, вспыхивали с новой силой. Как зачарованная, смотрела на них Соня.
И вдруг яркий свет вырвался из многих окон и из макушки углового дома, и дом стал гореть. Но горел он совсем не так, как мамин летний костёр, больше всего было грязного цвета, грязно-золтистый огонь вырывался из окон извивающимися, длинными языками, жадно обнимал стены. В ослепительных искрах, гаснущих и вспыхивающих, неслись вниз, к земле, спинка кровати, люстра, крышка рояля, громадная кукла, куски стен, перевёртывались по несколько раз в воздухе, разлетались, упав на землю, грохот, звон и стук падения сливались с воем и гулом сирен и самолётов. Долго кружили в воздухе тетради и книжки, пух, тряпки.
Резким рывком мама подхватила Соню на руки, затащила в подъезд, припала к стене. Маму била дрожь. Совсем близко, настырно выли самолёты. Соне казалось, сейчас они влетят в подъезд. Втиснуться бы в стену! За этой стеной — их квартира, они живут на первом этаже, почему же мама не идёт домой? Дома не страшно.
Но мама не двигалась. Только дрожала, словно дрожью могла спасти и себя и Соню. И тогда Соня сказала:
— Мама, мы же с тобой живы! Идём домой. Я хочу чаю.
Домой. Это слово в ту минуту было главным, как главным было и то, что они с мамой остались живы, но сделать несколько шагов к двери квартиры мама не могла.
3
Тот день начался с ветра. Ветер рвался в комнату. Окно заклеено чёрной бумагой, и Соня не может посмотреть, что происходит на улице. Похоже на вьюгу. Но ведь ещё только октябрь! Воет ветер, гудят провода. В комнате холодно. Но страшнее холода — голос, от него Соня и проснулась:
— Немцы наступают…
В бомбоубежище она слышала: «К Москве подходит немец». Анощенкова говорила: «Немцы идут на Москву».
И только под гудящим за окном ветром Соня осознала: скоро в Москву придут драконы с огнедышащими пастями!
— Мама! — позвала, натянув до глаз одеяло.
Но мама не подбежала к ней, как обычно. Тогда Соня заставила себя встать. Укутавшись в одеяло, пошла на кухню.
На кухне на своём месте за столом — Родя. У Сони не хватило голосу, чтобы поздороваться, она только вздохнула радостно и полезла к нему на колени, обхватила за шею. Одеяло сползло, но Соня не заметила.
Мама всхлипнула.
— Ты чего? — удивилась Соня. — Родя дома! Он теперь всегда будет завтракать с нами, правда же, Родя? Ты ведь наконец будешь свои книжки дома читать, больше никуда не уйдёшь? Без тебя страшно!
Никто Соне не ответил. Тогда Соня огляделась. На керосинке — сковорода с лепёшками, на столе — свёртки, а на полу, к ножке стола, притулился вещмешок.
Соня уставилась на маму, потом на Родю. Мама, не скрываясь, плакала. Она никогда в жизни не плакала, а сейчас плакала, и лицо у неё было вовсе не красивое, а сморщенное, как у старушки, и больших глаз не видать. Родя гладил Соню по спине.
И вдруг Соня закричала:
— Не пушу! Я тебя никуда не пущу! Я без тебя не хочу! Мне без тебя плохо, плохо… — Снова перед Соней падает крышка от рояля, большая кукла… а может, это была не кукла. Как горько плакал тогда Петя! Соня забарабанила по Родиным плечам. — Тебя убьют, как убили Петиного папу! Там — «большие потери»! Там, там… всех убивают!
— Замолчи! Замолчи! — зло, совсем на неё не похоже, закричала мама. Сдёрнула Соню с Роди, поставила на пол, подняла одеяло: — Иди одевайся! Уйди! Уйди!
Маму трясло, и Соня сразу замёрзла, хотя в кухне было тепло. Она горько заплакала. То ли от обиды на маму, то ли от того, что во время бомбёжек Роди с ними не будет, то ли от непонимания, почему Родя, который учился «сидеть с книгами», идёт воевать. В другое время Соня спросила бы маму об этом, но у мамы лицо было злое.
Может, это ошибка, и Родю вовсе не на фронт посылают, а сидеть с книжками?
— С папой не успею попрощаться, как нарочно не пришёл сегодня. И телефон не отвечает. — Родя говорил спокойно, строго, словно это не он уходил сейчас от них, словно не на фронт он уходил. — Передай, я его не подведу. Я знаю, он думает, я слабак…
— Поешь, — перебила мама. — Неизвестно, когда придётся в следующий раз.
Родя посмотрел на часы.
— Пора, мама. Ты же мне дала котлет и лепёшек! Вот я и поем. Попрощаюсь с домом ещё раз. — Родя поднял Соню на руки. — Ты теперь большая, должна понимать — не всё можно говорить. Видишь, до чего ты маму довела! Она и так мучается. Береги маму. Мама у нас худенькая… — Соне было тепло в Родиных объятиях. — Вырастать, Соня, не спеши, детство — это добрая страна, подольше поживи в ней. Не слушай радио и того, что болтают люди. Читай сказки. Ты же знаешь, все сказки кончаются хорошо. Так и в жизни будет. Только нужно очень верить в хороший конец. А ты, мама, выключи своё дурацкое радио. — Родя долго молчал, потом сказал с трудом: — Не тяни, мама, уезжай как можно скорее. Теперь тебе нечего здесь делать, а я буду спокоен, когда вы окажетесь в безопасном месте.
И снова наступила тишина.
4
То, что не всё можно говорить вслух, для Сони — откровение, она привыкла говорить всё, что думает. Не успеет подумать, а слова уже выскочили из неё. Как это — не «всё говорить»? Может, мама не знает, что Петиного папу убили совсем?! Почему радио говорит про потери, а она не должна?
Соня одевалась, и обида на маму пряталась в одежду. Как мама закричала на неё! Какое злое у мамы стало лицо! И почему? Потому, что Соня сказала правду.
Музыка гремит из радио тягучая — она хуже, чем голос. Это музыка и марши с песнями всё время держат перед Соней разноцветное ночное небо с яркими вспышками, падающие вещи и обломки стен.
Наконец оделась. Идти к маме или ждать, когда мама сама придёт к ней?
Конечно, лучше ждать. Пусть мама вспомнит о ней и придёт пожалеть её. Соня надула губы, как обычно надувала в минуты обиды. В последнее время слёзы близко и, только войди мама, тут же хлынут.
А мама не идёт. А в окно бьётся ветер. И платье не согревает, ноги в ботинках заледенели, руки холодные, как у лягушки. К тому же на сковороде — лепёшки! Румяные, красивые, пышные. Только мама умеет печь такие.
Соня не выдержала, пошла на кухню.
Мама сидела на Родином месте, держала его чашку и смотрела в одну точку. Глаза открыты, а спят.
Постояв около мамы. Подошла к керосинке. Лепёшек осталось только две, одну Соня взяла, откусила. Но, прожевав первый кусок, положила лепёшку на место и вернулась к маме.
Что сделать, что сказать, чтобы мама перестала так смотреть? О Роде нельзя говорить, о немцах нельзя, о Петином папе нельзя. О чём же можно?
Резко зазвонил телефон. Соня вздрогнула. Мама вскочила, побежала в переднюю.
— Да, да, Игорь, да, да, — мамин голос прыгал, как мячик. — Да, да, да.
Что «да», «да», когда всё кругом — «нет», «нет», «нет»!
Мама положила трубку. Долго стояла в передней, около телефона. Соня подошла к маме, обхватила её. И мама словно проснулась. Склонилась к Соне, погладила по голове.
— У всех волосы как волосы, у тебя пух. Ни пробора сделать, ни кос заплести. — Мама помолчала, сказала непонятное: — Шестнадцатое октября. — И сразу: — Скоро папа приедет, мы должны быть готовы.
Соня обрадовалась, давно папу не видела!
— К чему готовы? — спросила.
— Мы уезжаем из Москвы. У нас с тобой один час на сборы, на еду, на уборку. А может, и меньше часа. — Мама с трудом подняла Соню, принесла на кухню, усадила на Родино место, будто только оно одно и существовало, и вокруг стола не стояло ещё трёх стульев, налила Соне чаю, поставила перед ней тарелку с котлетой и лепёшкой.
— Ешь как следует, наедайся. И поможешь мне собраться.
Когда Соня пришла в комнату, её поразила тишина. Не было ни музыки, ни голоса, ни ветра в окно.
— Можно я возьму куклу? — спросила Соня.
Куклу ей подарили в день рождения. У куклы были круглые розовые щёки и ярко-голубые глаза.
— Нет, Соня, у нас получается много вещей, мы не дотащим, — сказала мама. — Возьми только портфель, ты ведь должна ходить в школу.
Теперь, когда музыки и голоса и ветра не было, стала слышна улица. Голоса, плач, шарканье, топот спешащих людей, чёткий шаг солдат… — никогда их узкий переулок перед Патриаршими прудами не был таким шумным.
Под окном резко затормозила машина. И тут же стукнула дверца. И тут же щёлкнул замок входной двери.
— Па! — крикнула Соня и осеклась: мама уронила зеркало, осколки весёлой дробью поскакали по полу, мамино лицо побелело.
— Да ну, глупости какие! Если верить во все приметы, жить нельзя, ты слишком суеверна, — успокаивал маму папа, а видно, и сам испугался. Всегда сухой, неласковый, обнял маму. — Ну, Люся, Люсенька, не бери в голову. Собирайся скорее. Надо спешить. Времени мало. Главное — прорваться вам с Сонькой. Не думай ни о чём плохом, слышишь? Родя вернётся. Мы снова будем все вместе. Люсенька!
Соня склонилась над осколками. Вот она! И здесь она, и здесь. И здесь! Лохматые, дыбом, волосы, бордовый воротник платья, папины зелёные глаза.
Папа с мамой больше не говорили. Они так прижались друг к другу, словно их было не двое, а один человек, закрытый папиным пиджаком, только ног у этого человека четыре.
Соня подняла два осколка, понесла в помойное ведро. Вернулась — папа с мамой всё стоят. Соня взяла ещё два осколка. Ещё и ещё. Когда мама наконец снова появилась, Соня испугалась — это была не мама: так перекошено лицо.
— Бери только тёплые вещи, больше ничего, — хрипло сказал папа. — Говорят, там помогут.
Странно прозвучал мамин смех.
— Миллионам помогут?! Вся Россия тронулась с места. Разве может хватить у государства еды на столько голодных ртов?! Я хоть на первое время возьму.
— Ты сразу вышлешь адрес, я буду пересылать вам посылки. Но ведь и там тоже живут люди. — Папа понёс тюки в машину, сказал от двери: — Главное — прорваться сейчас!
Опять странная фраза, которой Соня не поняла.
Папа вернулся без вещей.
— Девочки, присядем перед дальней дорогой, — сказал. — Ты, Люся, суеверная, вот и давай.
Мама и папа сели на диван рядом, а Соня влезла между ними. Ей показалось, сидели они долго, а папа сказал:
— Вот тридцать секунд и прошли.
Секунда, Соня знает, это «раз», и всё. Значит, они сидели совсем недолго.
— Слушай, что скажу, Люся. Я очень прошу вас обеих выжить. Не надрывайся. За не свою работу не берись. Знаю я тебя: начнёшь на себя взваливать больше, чем обычный человек способен вынести. Меня тоже эвакуируют — завтра. По твоему запросу тебе перешлют адрес. Обо мне не волнуйся. А мы… я… мы… сделаем всё для скорой победы. Главное сейчас — техника! — Папа говорил рвано, спотыкался, и всё у него получалось главное. Сказал все слова и встал. — Ну, девочки, пора. Поезд отходит через два часа. Пока доберёмся. Люся, Люсенька, идём, родная. — Папа тянул маму, а она стояла на пороге квартиры, не давая закрыть дверь. — Мы все вернёмся сюда, вот увидишь! Идём, родная!
И Патриаршие пруды, и их Ермолаевский переулок, и Малая Бронная были полны народу. В праздники много людей на улицах, но в праздники люди — нарядные, весёлые, поют, а сейчас согнулись под ветром и тяжестью вещей, кто плачет, кто кричит, кто тащит себя волоком, еле бредёт.
Да ещё с неба сеется мелкая, острая, ледяная крупа — дождь не дождь, снег не снег.
— Бегут! Крысы с корабля! — Соня повернулась к голосу. Старичок-сосед, привычный, как сломанная ручка парадного, как стенка с облупленной штукатуркой, всегда молчаливый, сейчас воинственно поднял свою палку, и глаза у него — красные и бешеные. — Сдают город!
— Замолчи, дед! — сказал папа резко. — Чего не понимаешь, не говори. Никто Москвы не сдаст! Не допустим. Понял?
— Как же «не сдаст»! Немец уже здесь, вот он! Иначе зачем драпать? Вместо того чтобы барахлом ― баррикадами загородить город, самим встать стеной, смотри: удирают, бегут!
И вправду, люди бежали, если можно бежать с тюками, чемоданами, мешками и детьми.
Папа не стал ничего больше говорить старику, помог им с мамой залезть в чёрную эмку, и эмка медленно поползла по запруженному людьми переулку.
— С такой скоростью разве что к завтрашнему дню доползём. — У папы от волнения дёргалась бровь. Но шофёр успокоил его:
— Нам бы только попасть на Садовую!
В самом деле, как только выбрались на Садовую, эмка поехала быстрее. Машин было немного, люди шли по тротуарам, а посередине мостовой, оглушая, двигались танки. Соня припала к окну носом и, не заметив даже того, что нос сразу превратился в ледышку, жадно пыталась рассмотреть грязно-зелёные, с красными звёздами и тугими стволами, громыхающие машины.
К вокзалу подъехать не смогли. Негде было яблоку упасть — вот куда стекались толпы со всего города!
Папа, подняв над головой тюки, каким-то чудом прокладывал дорогу. Мама одной рукой держалась за хлястик его пальто, другой изо всех сил сжимала Сонину руку. Соня всё время спотыкалась об острые углы чужих чемоданов, лицом задевала за грубые пальто.
— Быстрее! — толкали её сзади и с боков.
— Быстрее! — кричали впереди.
Наконец добрались. Поезд совсем не был похож на те, что ездили в метро: стенки у него деревянные, вместо окон два маленьких отверстия, ступенек нет, в вагон нужно взбираться. Дверь немного похожа — задвигается вбок.
Дальше Соня не помнила, как что получилось. Сзади надавила толпа. Её резко рвануло вперёд, и всё пропало. Очнулась от воды, заливающей лицо: мама поила её. Папа растирал грудь.
— Слава богу, — сказала мама. — Тебе больно? — спросила тревожно.
А папа отвернулся. Закусил губу.
Соня огляделась. Мрачно. Темно.
Народу очень много, в большинстве женщины с детьми и старики, пристроились на лавках и на полу; посреди вагона — печка-буржуйка, от неё труба уходит в потолок.
— Как ты без меня?! — Папа хотел улыбнуться, скривился, поцеловал маму в шею, поднял с тюка Соню.
Кругом всё плакало, орало, ругалось, от обилия разных голосов и звуков шумело в голове, лишь ей, в папиных руках, было спокойно и тихо. Но совсем недолго. Снова она очутилась на тюке, окружённая плачем и руганью, а папа, перешагивая через чемоданы, мешки и людей, не оглядываясь, стремительно пробирался к выходу. Соня хотела позвать его и… не решилась: всё равно он не вернётся к ней!
Продолжение следует…