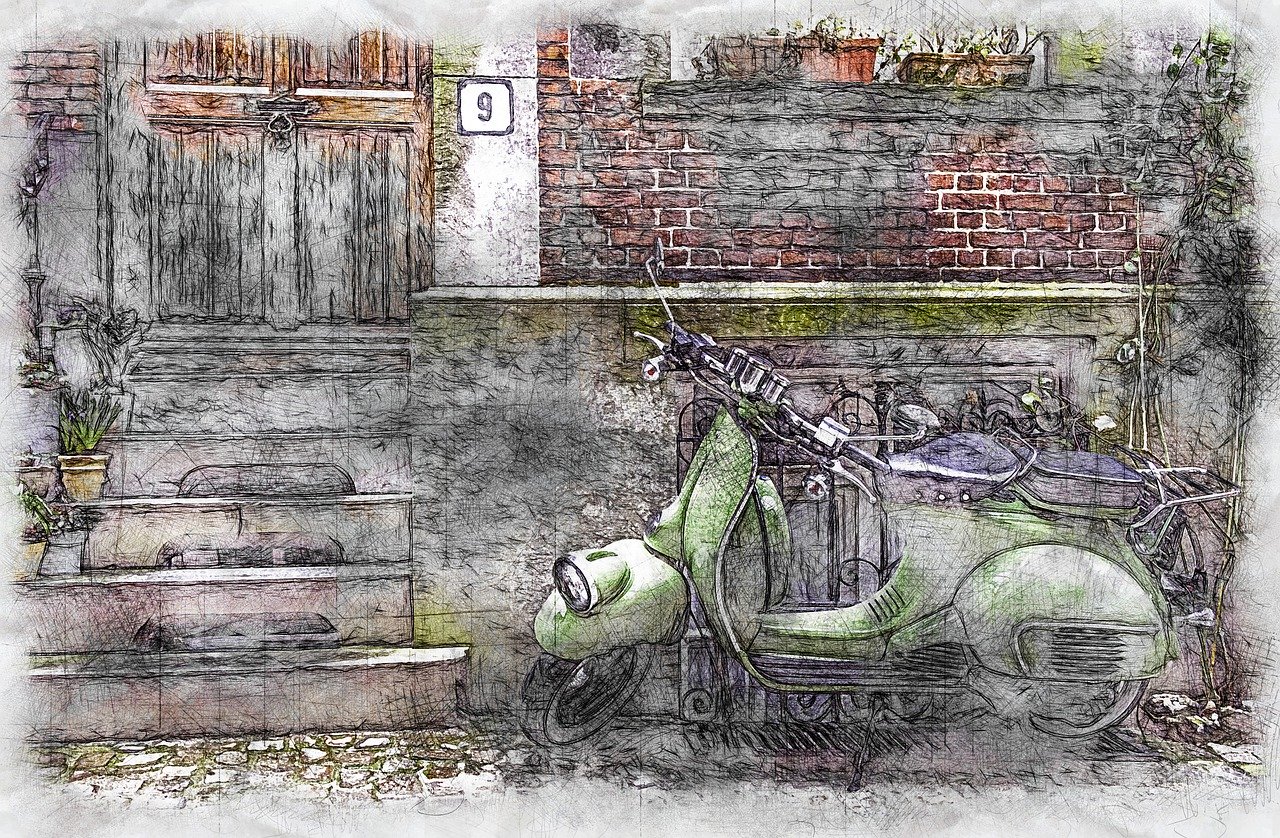Арт-портал гУрУ совместно с издательством Саммит-книга публикует отрывки из новой книги киевской писательницы Марии Миняйло “Дети града” – историю о том, как непросто быть ребенком в жестоком мире взрослых. Это история о каждом, кто рано повзрослел, так и не успев стать взрослым.
В «Серой Иве» было немного учителей, так что некоторые из них преподавали сразу несколько дисциплин. Например, учительница истории могла легко вести уроки географии, а учитель физкультуры — труд для мальчиков. Одним словом, говоря на современный лад, старушка «Ива» страдала от нехватки кадров.
Учителя наши в подавляющем своем большинстве настолько устали от серой жизни в городке М., что сил на нас у них попросту не оставалось. Были они, конечно, и грубые, и строгие, но в основном безразличные. Мы мало волновали их умы, а тем более сердца.
Тем не менее, были и такие, кто нас ненавидел. Вернее, она была одна, но в своей злобе и жестокости с лихвой могла заменить десяток подобных. Оксана Геннадиевна, учительница русского языка. Спустя годы я часто размышлял над тем, как один, совсем незначительный человек, может привить такую нелюбовь к той или иной дисциплине. Ненависть к русскому языку я пронес через всю жизнь, холодея каждый раз при мысли о деепричастных оборотах и всяких там приставках типа -пре и -при.
Оксана Геннадиевна была роста ниже среднего, с грушеподобным рыхлым телом и выщербленным передним зубом. Ее короткие волосы всегда были сальные, а губы бледные и сухие. Одним словом, красавицей назвать «русичку» не поворачивался язык даже у Никичны, в силу своего доброго нрава находившую красоту в каждой особе. Оксана Геннадиевна откровенно нас ненавидела. Именно ненавидела. Нелюбовь или неприязнь выражается подругому, человек просто игнорирует тебя, терпеливо сносит, а ненависть — чувство яркое, оно требует постоянной подпитки негативом.
Ввиду нехватки как учителей, так и помещений, пригодных для проведения занятий, уроки русского языка проходили в музее Великой Отечественной войны, занимавшем одну из комнат интерната.
После окончания трагических событий, приведших к смерти доброй половины граждан Советского Союза, местные власти города М. решили во что бы то ни стало увековечить память о жертвах, павших за свободу и честь своей Родины… Однако в городе так и не нашлось ни одного приличного места, где можно было бы открыть образцово-показательный музей. Что располагалось в помещении нынешнего музея в конце 40-х, никто не помнит (скорее все- го, одна из классных комнат), но именно здесь решили оформить экспозицию. Комната эта просторная, с большими окнами в пол, но темная, так как окна давно заплел вьющийся виноград. Посреди комнаты стоял громоздкий стол темного дерева, часть стены была затянута маскировочной сеткой, в углу расположили пару снарядов. Те стены, что были не тронуты сеткой, украшали огромные плакаты и фотографии детей, выглядывающих из-за колючей проволоки концлагеря, повешенных нацистами и окровавленных солдат, улыбающихся из окопов. Подборка материала несла мало героизма, по большей части это была иллюстрация трагедий войны. Помню, впервые попав на занятие по русскому языку в семилетнем возрасте, я был шокирован увиденным. Особенно меня напугало фото мальчика примерно моего возраста, который был запечатлен среди такой детворы. Он сжимал тощей рукой колючую проволоку и внимательно смотрел в камеру. Рядом на плотном картоне висело увеличенное и распечатанное письмо, затертое и истрепавшееся за годы.
Дорагая мама… Мы т.. жд.. Ваня и мня увез… холодно… гдя т.. прощ…
Было ли письмо написано рукой этого мальчишки, да и что вообще было в том письме — сказать сложно. Он писал маме, и ему, наверное, было холодно. И еще был Ваня, может, брат или друг. Мне думалось, что это прощальное письмо. Что мальчика с братом Ваней куда-то увозят и что сейчас ему очень холодно, и он прощается с мамой, которой, быть может, уже в живых нет… Испугавшись впервые этого мальчика и в особенности его взгляда, со временем я так к нему привык, что уже и не замечал глубокой печали и страха, застывшего в его светлых глазах. Не замечал я и костей, выпиравших из-под драной рубахи. Я попросту сроднился с ним, изучив каждую деталь внешности и одежды. И текст письма на память выучил. Дважды в неделю мы с ним встречались, и я даже придумал мальчику имя — Саша. Мне нравилось имя Саша, оно ему подходило, поэтому два раза в неделю по сорок пять минут мы с Сашей обменивались взглядами, и я знал, что он искренне сопереживает моим страхам перед Оксаной Геннадиевной, которые она вселяля в сердце. Саша знал, каково это, когда тебя мучают.
Оксана Геннадиевна любила подмечать в своих учениках их явные и косвенные недостатки как во внешности, так и в характере. Таня Кищук, девочка на пару лет старше, у нее была «заикой», так как не всегда могла быстро выговорить нужное слово, а Фиму Водовоза, моего одноклассника во втором классе (в начале третьего его усыновили), окрестила «Танюшей», так как полагала, что у мальчика совершенно женский характер.
— Мягкий ты, Фима, как девочка маленькая. Напоминаешь мне мою соседку Таню, неженку. Таня все в куколки играла да котов блохастых с помойки носила. И называли ее не иначе как ласково «Танюша»…— рассуждала Оксана Геннадиевна. Мы молчали. Все молчали. И живые, и мертвые, взиравшие на нас с картонных фотографий.
В один из ветреных весенних дней моего второго класса Оксана Геннадиевна назвала меня «неполноценным» ввиду того, что я никак не мог заучить какое-то из правил грамматики.
— Неполноценные дети вырастают уродами, Витя. У них деформируются ручки и ножки, лоб сужается. Понятно, почему родители сдали тебя нам, неполноценные никому не нужны. Может, мама уже и нового ребеночка родила…— говорила «русичка», а потом и вовсе выгнала меня из класса. Недолго думая, я быстро собрал свои тетрадки и учебник и вышел. На душе было гадко и хотелось плакать, поэтому я побрел на улицу.
— Шо приуныл, Смелый? — прохрипела Никична, когда я поравнялся с ее ветхим домом. Я лишь молча пожал плечами.
— Небось урок у «русички», эге? — хмыкну- ла старуха. Я кивнул.
— Злая баба она, ох и злая…— Никична поджала иссохшие губы,— ну ты это, давай, ходь ко мне в хату, там компот и печеня пожуешь. Ходь,— она легонько потянула меня за рукав рубашки, поманив внутрь своего жилья.
Дом дворничихи состоял из одной комнаты и пристройки, в которой был умывальник, табурет и деревянное корыто. Маленькая комната служила старухе кухней и спальней одновременно. В углу стояли стол и пара стульев, чуть поодаль шкаф, сбоку тахта. Возле тахты — старинная печка, которой Никична обогревала свое жилище, на ней же и еду готовила. Еще был большой сундук, в котором старуха хранила свои «сокровища», накопленные за годы: отрезы ткани, новые платочки, немного денег на похороны да старые письма и фотокарточки.
— Садись,— Никична указала скрюченным пальцем на тахту, где, свернувшись клубочком, спала кошка Лакрица, самая страшная кошка изо всех, что мне доводилось видеть. Лакрица была стара, как и ее хозяйка, и доживала свои годы в покое, пригретая доброй дворничихой. Кто назвал Лакрицу Лакрицей — еще одна загадка из множества других, пропитавших стены старушки «Ивы». Ходили слухи, что как-то, когда кошка была еще котенком, ухажер одной из учительниц привез ей из-за рубежа пакетик диковинных лакричных конфет, а маленькая Лакрица этот пакетик стащила и растаскала сладости по всему двору. Поговаривают даже, что именно в тот день она лишилась глаза и ста- ла хромой, получив сполна от владелицы угощения. Так это или нет, но Лакрица была Лакрицей, старой, одноглазой, хромой и активно некрасивой кошкой цвета дымки.
— Лопай, малыш,— Никична поставила передо мной стакан компота и вазочку с печеньем,— мне бы в твои годишки кто так от гору печеня сунул — Родину бы… Ух, к чертям! Продала! — расхохоталась старуха, наблюдая, как я нехотя жую.
— Очень вкусно, спасибо,— я улыбнулся.
Никична мне нравилась.
— Эть, другое-то дело! А то грустинку поймал, не красит! — она погладила меня по руке,— ты зла на «русичку» не тримай, она Боженькой обижена.
— Богом?
— Да, Господь он ведь, знаешь, всех людей благословляет, а Геннадиевну, видать, забув. У Бога так бывае, делов скока! Он забыл, а она теперь и злится, что ни рожой, ни душой не вышла. Она за мужика хочет, шоб любил ее кто-то, но такого смельца поди отшукай! — Никична всплеснула руками.
— Рожа не главное…— продолжила старуха,— вот Лакрицу мою возьми. Страшнее котку еще пошукать надо, но сердце у нее теплое, нрав ласковый. Она по ночам ко мне жмется, и я прям чую, как она своей любовью делится. Мою девочку незя не любить, хоть на морду уродина, да еще и хромая. Дело тут не в морде, все страшные стаем. Дело вот тут,— Никична похлопала себя по груди. Я молча пил компот и внимательно слушал рассуждения старой дворничихи о красоте и общечеловеческих ценностях. Она говорила неспешно, временами замолкая на минуту-другую, а потом и вовсе задремала на стуле, утомленная разговорами. Я вымыл стакан из-под компота, погладил Лакрицу и бесшумно вышел на улицу, медленно прикрыв дверь.