Тихие – они самые опасные. Так сказали мне, когда брали на работу. Почему – спросил я. Лично мне наоборот нравится тишина, а вот шум я ненавижу. Не выношу любой шум, так что шумные мне лично гораздо противней. Ещё я ненавижу яблоки, особенно красные. Но это к делу не относится.
Ладно, сказали они, просто будь начеку.
Начеку? Что ты, дура, знаешь про «быть начеку»? Я всегда начеку, даже когда сплю! Дура!
Ничего этого, разумеется, мной произнесено не было. Мне нужна была работа. Меня спросили насчёт ночных смен. И ещё – могу ли я успокоить человека. Уточните, – не понял я. Она: пациент может нервничать и его необходимо успокоить. Физически.
Физически?
Да, применить силу.
Это можно, – уклончиво согласился я. По личному опыту степень физического успокоения человека может мыть от подзатыльника до контрольного выстрела в голову. Об этой градации тоже не стоило говорить тут. Повторяю, мне нужна работа.
1
Я ненавижу шум. Слишком много шума было в Малешках. Поэтому я люблю, когда тихо. Катька сказала – ты всё время молчишь. Ты ничего не рассказываешь. Ты стал такой тихий.
– Что рассказывать? Как было в Малешках?
– Что такое Малешки?
– Понятия не имею. Но я там был.
Когда Катька сердится, она повышает голос. Я ей говорю – не повышай голос. Я не повышаю, – орёт она в ответ. Тебя вечно нет! Что это за работа – три ночи в неделю?Три ночи в неделю тебя нет дома! Неужели другой работы нет? Сторож в психушке!
– Дежурный ночных смен, – спокойно возражаю я. Не повышая голос.
– А когда ты тут, тебя всё равно что нет. Сидишь и молчишь! Что ты есть, что тебя нет!
Тут она права, тут мне нечем крыть и я не спорю. Меня нет – иногда мне кажется, что этот вариант был бы наилучшим. Прошлым мартом мы расписались, было бы глупо потерять контрактные. Я отдал деньги Катьке, она пришла меня провожать в новом красном платье – сказала, итальянское. Красивое платье, только яркое очень. Сейчас, когда она его надевает, у меня начинает шуметь в ушах. Шуметь и звенеть – такой невыносимо громкий цвет.
– Цвет не может быть громким. Он просто красный.
Не спорю. Молчу. А сам думаю: вот поэтому, милая, меня и нет дома три ночи в неделю. Я там. Там тихо. Почти всегда. А если кто-то нервничает и начинает шуметь, я успокаиваю. Когда меня брали на работу, они не спросили, есть ли у меня специальная тренировка. Конечно, есть. Даже если в анкете не написано, я всегда могу определить по человеку. Это ж видно.
– Да? – Катька уже рычит. – Или нет?
Я прослушал, пропустил вопрос. Теперь лучше просто молчать. Не буду же переспрашивать, когда она в таком состоянии.
– Да или нет? – кричит она мне в лицо.
В принципе, я считаю, что любое «да» должно быть железобетонным, на все сто нужно верить в своё «да». Сказал – как отрубил. Я снял с крючка свою куртку и вышел из квартиры. Дверью даже не хлопнул, тихо прикрыл. Замок щёлкнул, как автоматный затвор. На улице было темно и сыро. Я натянул куртку и застегнул молнию до горла. На улице было холодно.
Тихие – самые опасные? Чушь. Да и буйные тоже не проблема. Я редко применяю силу, они хоть и психи, но явно чуют, на что я способен. Впрочем, у нас в Черкизовской всё культурно, никого психами не называют – упаси господь, никаких сумасшедших или шизиков, только пациенты. Да и больница – не дурдом, а клиника по реабилитации. Клиника, мать твою… с тюремными решётками на окнах.
Катька мне говорит – тебе в храм надо – исповедаться и покаяться. Отец Алексей, говорит, такой замечательный. Видел я, как этот замечательный на вдов пялится. Пошёл как-то с Катькой, а там церковь битком бабьём набита. И поп этот, что твой султан в гареме. И глазки масляные так и бегают. Исповедаться и покаяться – кому? Батюшке? Отцу Алексею? Мне моего родного батяни позарез хватило.
Я не против религии или церкви, сам иногда захожу в нашу. Они ж не могут тебя выгнать, правильно? Когда там нет службы и людей мало в храме очень даже прекрасно. Тихо. Воском пахнет. Деревянный Иисус в натуральную величину на кресте висит. В темноте лампадки горят и все шёпотом разговаривают. Можно исповедаться и получить отпущение грехов. Тоже шёпотом. Как к этим попам обращаться – товарищ священник? Ваше преосвященство? Святой отец? Батюшка Алексей, разрешите исповедаться и получить отпущение грехов?
– Разрешаю, сын мой! В чём грешен?
– Грех убийства, ваша светлость, на мне.
– Тяжкий грех, сын мой.
– Но я был в армии. В другой стране. И почти год назад.
– Ну это другое дело. Грех отпускаю – ступах с миром, сын мой.
– Можно вопрос, товарищ поп?
– Спрашивай, раю божий.
– А вы всех вдовиц ебёте или только которые помоложе?
– Всех, сын мой! Это ж мои овцы, а я их пастырь.
Прохожу как раз мимо церкви, там поют. Можно подумать, ангелы – нежно и сладко, точно ты уже в рай попал. На деле – старухи в тугих платках. Я проверял. Да и с остальным в жизни точно такая же петрушка. Проверял тоже.
2
Поначалу ничего необычно я и не заметил. Они часто над нами летали, шли на посадку. До аэропорта километров десять там, может, пятнадцать. Мы стояли глубоко в тылу, зэки латали мост, был там и стройбат, и горлохваты из вохра. Машин нагнали прорву – бульдозеры, экскаваторы, грузовики туда-сюда шныряют. Наша братва держала периметр, на том берегу выставили две «Осы», на нашем вкопали «Тунгуску». Обход по периметру делали нарядами по парам, три часа один круг. «Кусок» объезжал периметр дважды в день на «мотолыге». Было тихо, жаркий август, рядом лесок, речка течёт – почти курорт. Глубокий тыл, говорю.
– Гляди, Фролов, – Лютый ткнул стволом «ксюхи» в небо, – летят, сучки. Это чё, Aн или тушка?
Вроде пассажирский «Aн», я с родителями на таком, только старой модели, летал в Сочи, верней, до Адлера, а оттуда уже на такси. Батя любил проснуться рано, будил меня и мы бежали на пляж у «Приморской» пока ещё все спят. Мы бежали аллеями через парк – тёмный и пустой. Шире шаг, пехота! – кричал мне отец. Пахло магнолиями. Всё от росы было мокро, листья, скамейки, пятнистые стволы платанов, на мокрой дорожке валялись шишки кипарисов, похожие на лилипутские футбольные мячики. В просвете деревьев появлялось море, каждый раз как чудо. Мы бежали на пирс, батя гнал уже во все лопатки, на конце волнореза он застывал на миг, взмахивал руками, точно собирался взлететь, пружинисто отталкивался и нырял. Через минуту его голова показывалась где-то вдали, у самых буйков. Я не решался нырять головой и поэтому прыгал в воду «солдатиком». Батя был майором и считал, что лучше службы в армии ничего на свете быть не может.
– Щас бы по нему из «Тунгуски» жахнуть, – Лютый вскинул автомат, – Шарах! И в клочья!
Лютому даже кличку не нужно придумывать – с такой-то фамилией. Думаю, он в жизни не летал на самолёте. Я б не удивился, узнав, что он не умеет читать. Лютый шёл чуть впереди, мы спускались с холма, дальше периметр шёл через лесок, на той неделе Гуня из второго набрал там опят, от которых всё отделение чуть не передохло. Опята в августе – грибник, твою мать.
– Фрол! – заорал Лютый, задрав голову. – Гляди!
«Ан» был прямо над нами, но Лютый тыкал в другую сторону. Сперва я увидел инверсионный след, а после и саму ракету. Её траектория лежала по курсу самолёта. Ракета быстро приближалась.
– Это ж с нашей…
Ощущение было странным, будто во сне. За секунду я успел представить салон и удобные кресла, холодный кондиционированный воздух, пилот только что объявил о времени приземления, стюардессы собирают подносы, а пассажиры уже пристегнулись и планируют, как будут добираться в город из аэропорта.
– Нет… – я инстинктивно поднял автомат, стараясь преградить путь ракете.
Огненный шар, ярче солнца, полыхнул и погас и только потом долетел гром взрыва. «Ан» дёрнулся, будто споткнулся, потом начал заваливаться на бок. В брюхе чернела дыра, оттуда показалось пламя, повалил жирный чёрный дым.
– Люди… – пробормотал Лютый, – падают…
Из рваной прорехи в фюзеляже полетел то ли мусор, то ли обломки – куски чего-то тёмного, но после я разглядел руки и ноги. Внезапно «Ан» переломился пополам, мне показалось, что хвостовая часть падает прямо нас, но она спикировала и рухнула где-то за лесом километрах в трёх. Мы рванули туда.
Высокая трава путалась в ногах, «ксюха» колотила по спине, я перекинул автомат на грудь. Лютый бежал впереди, он изредка оглядывался и коротко матерился с каким-то восторженным испугом.
Первое тело лежало на боку, руки прижаты к бёдрам, правое плечо ушло в землю, в двух шагах валялись очки. Лютый подбежал, присел на корточки, развернул тело. Это была пожилая женщина учительского типа с седой стрижкой, глаза широко раскрыты. Седина отливала голубым. Я зачем-то подобрал очки. Их дужки были ещё тёплыми.
– Я думал с такой высоты всмятку, – Лютый вырвал серьги из её ушей. – Как арбуз…
Другое тело оказалось мужским, оно упало в куст малинника, подбегая я не понял, это ягоды или брызги крови на листьях. В хорошем костюме со стальным отливом, видать, дорогой был костюм, рукава пиджака были надорваны, точно кто-то пытался их вырвать. Я перевернул тело, колючки малинника царапали руки. Лысый, нос на лице был вдавлен в череп, но крови не было. Лютый тянул труп за руку, пытаясь снять перстень с мизинца. Я сунул руку во внутренний карман пиджака и достал бумажник. Тугой, с золотой застёжкой, внутри была фотография каких-то детей под мутным пластиком, водительские права и толстая пачка денег – стодолларовые купюры были совсем новыми, от них пахло машинным маслом.
– Барыш по чесноку, Фрол, – Лютый пыхтел, расстёгивая браслет часов. – Бимары-то – рыжуха! Во масть попёрла!
– Ты знаешь, кто это? – я прочитал фамилию на карточке водительских прав.
– Без понятия.
– Это Кулемеков.
– Ни хера себе! Это с Москвы который?
3
Я сунул пачку денег в карман. Закрыл бумажник и застегнул на кнопку. Одновременно две мысли, нет – три, возникли в голове: в пачке должно быть не меньше тридцати тысяч – это раз. Кулемекова сбили наши – два.
– Лютый, отсюда валить нужно! – это была третья мысль. – Срочно!
– Погоди, братан… – Лютый выхватил у меня бумажник, впихнул в свой подсумок. – Такой фарт!
На ходу он сорвал крупную малинину и сунул в рот, вскочил и кинулся в сторону леса. Я побежал следом. Опушка была усеяна каким-то белым мусором, точно свора собак драла тут журнал или газету. Из растерзанного чемодана торчали разноцветные тряпки, под ногой что-то хрустнуло – женская сумка. Я раскрыл и вывалил содержимое на траву. Помада, пачка жевательной резинки, мелочь и несколько мятых купюр, презерватив в фольге, зажигалка. Я сунул зажигалку в карман и увидел женскую фигуру. Она стояла метрах в пятнадцати, согнувшись, точно пыталась что-то отыскать в траве. Земля там была мягкой, рядом тёк ручей. Тело вошло в грунт по колени. Она падала вертикально –«солдатиком». От удара её лицо как бы сползло с черепа, самым страшным были глаза. Нитка её бус лопнула от удара и жемчужины валялись в грязи. Зачем-то я начал собирать эти бусины, грязь чавкала, я старался не смотреть ей в лицо, но каждый раз натыкался на жуткие глаза.
Коллекция моих ночных кошмаров весьма богата: я видел как зэки из «Вагнеров» отрезали своему голову, отрезали обычным кухонным ножом. На моих глазах живьём сожгли старуху и её внука. Я видел трупы, раскатанные танками, целое отделение салаг впрессованное в жирную коричневую глину. Кровь, смерть и грязь перестают пугать – к ним человек привыкает просто. Но вот, что действительно страшно – это люди. На что они способны.
Труп стюардессы лежал на пригорке. Тугое платье морковного цвета задралось, босые розовые ноги, прямые и длинные, были разведены в стороны, точно она собиралась делать упражнение для укрепления пресса. Лютый, по-звериному, на карачках суетился вокруг тела. Вырвал серьги, пытался снять цепочку, она запуталась в волосах. Оборвал, запихнул всё в подсумок.
– Ты что? – крикнул я, подбегая. – Совсем сдурел?
– Краля какая! – Лютый оглянулся, он стягивал с трупа трусы.
Не стягивал – рвал, материя трещала. Отбросил тряпку в сторону.
– Она же мёртвая! – заорал я.
– Нормалёк! Ещё тёплая!
Лютый, стоя на коленях, расстегнул ремень и быстро спустил штаны. Я хотел что-то сказать, но издал лишь какое-то блеяние. Лютый подался вперёд, его зад, тощий и бледный, начал рывками дёргаться. Ноги стюардессы дёргались в такт. У неё был маленький размер ноги, почти детский, а ногти аккуратно покрашены рыжим лаком – в цвет униформы. Из-за леса вставал столб серого дыма. Туда упала носовая часть самолёта. Где-то уныло выла сирена, снова и снова. Я снял с плеча автомат, перевёл предохранитель на одиночный огонь и сделал три выстрела в спину Лютому. Под левую лопатку, где у людей обычно бывает сердце.
Сирены стали громче. Я уже бежал через лес. Послышался треск вертолёта, он тоже приближался. Лес редел, за деревьями показались ряды яблонь, оттуда поднимался густой дым. Сирены теперь выли не переставая, точно тут решили собрать всех пожарников на свете. Я выскочил на опушку, над макушками яблонь из клубов дыма торчало крыло самолёта, вдали темнели деревенские крыши с кирпичными трубами и кривыми антеннами.
«К самолёту не подходить!» – прогремел голос сверху. – «Всем отойти от самолёта!»
Я задрал голову и увидел вертолёт. Это был «Аллигатор», совсем новой модели, такие показывали только на параде.
«Очистить зону катастрофы! Всем немедленно очистить зону! Виновные будут арестованы!»
Место крушения напоминало огромную горящую помойку. Вокруг сновали гражданские, явно из местных. Тощий дед в шинели тыкал длинным дрыном в ворох чадящего тряпья. Драный пёс вертелся рядом и угрюмо тявкал. Белобрысый пацан в солдатских сапогах волок здоровенный чемодан. Две крепких бабки тащили вырванное с мясом самолётное кресло в синей обшивке, кресло ещё дымилось. Среди обломков лежали мёртвые тела, но на трупы никто внимания не обращал. Вертолётный винт поднимал с земли мелкий мусор, трепал ветки яблонь, закручивал клочья дыма в смерчи.
«Очистить зону катастрофы! Немедленно очистить зону!»
Вертолёт не мог тут приземлиться из-за яблонь, пилот зависал, после делал круг, возвращался и зависал снова. Голос гремел, динамики трещали от перегрузки. Местные уже не обращали внимания ни на голос, ни на вертолёт. Я наступил на что-то мягкое, это был портфель. Я наклонился и в этот момент услышал очередь. Били из крупнокалиберного пулемёта. Тут же раздались крики, визг. Деревенские бросились врассыпную. Я упал в траву, отполз за ствол яблони – через полгода такие действия уже совершаются инстинктивно. Вертолёт сделал круг, снизился, пулемёт заколотил снова. Я думал, что они просто пугают, но с вертолёта били по людям. Местные бежали к домам, оттуда послышался вой сирены и короткие автоматные очереди.
Ползти было сложно из-за яблок. Трава была усеяна крупными красными яблоками, яблоки врезались в живот, в пах, я их давил коленями и локтями. Я знал название этого сорта – Виста-Бэлла, у нас на даче росла такая яблоня. Зреют яблоки эти к концу лета, но мы с Колькой обдирали всё ещё в июле. Кислющие, блин, до оскомины.
Вертолёт теперь кружил над деревней, они больше не говорили, только стреляли. Сад примыкал к лесу. Перебежками от яблони к яблоне я добрался до опушки. Нырнул в лес. За сосной наткнулся на мальчишку, я его видел там – тот самый, что тащил чемодан. Чемодана с ним не было, не было и сапог. Босой и грязный, он сидел сгорбившись, как маленький зверь.
– Беги отсюда! – я дёрнул его за рукав. – Беги!
Он вытаращил на меня глаза.
– Беги! – гаркнул я.
Мальчишка вздрогнул, точно проснулся.
– Это ж наши, – тихо проговорил он и повторил. – Это ж наши?
– Наши-наши! Ты не ранен?
– Бабусю там… – он шмыгнул носом. – Я видел…
– Парень, не сиди тут! – я хлёстко шлёпнул его по щеке. – Они будут прочёсывать, понимаешь?
Он отрицательно мотнул головой.
– Пристрелят! – крикнул я. – Найдут и пристрелят.
– Зачем?
Со стороны деревни слышались выстрелы. Одиночные, иногда короткой очередью. Шла зачистка. Я никогда не принимал участия, но, конечно, слышал про такое.
– Зачем? – повторил парень.
– Тебя как звать?
– Витёк.
– А деревня как называется?
– Малешки…
Я взял его за тощие плечи, тряхнул.
– Витёк! Запомни – ты никогда не видел этого самолёта. Ты никогда не был в Малешках. Ты ничего не знаешь вообще! Понял?
4
Конец октября. Воскресным утром в Москве пусто, светло, тополя стоят серые и голые, на бульварах листья шуршат под ногами, от тополиной листвы сладко тянет брагой, запах мешается с городской гарью и почему-то напоминает кладбищенский дух. Почему от запаха такого мне становится муторно и пакостно на душе – это же всего лишь запах?
Катька уверена, что она спасла мне жизнь. Я не спорю – молчу. Тогда Катька каждый день ходила в храм, ставила свечки у иконы Богородицы «Взыскание погибших», читала специальную молитву у ног распятого Христа. У них там в церкви на стене висит Иисус в натуральную величину, он вырезан из дерева и покрашен розовой краской, из ран стекают капельки красной крови – не очень реалистично, замечу мимоходом, но зато гвозди, вбитые в руки и ноги самые настоящие, – здоровенные железные костыли, какими прибивают рельсы к шпалам. Намертво приколотили Христа в нашей церкви.
Катька и после моего возвращения продолжала читать эту молитву перед сном. Я лежал в кровати, она стояла на коленях в углу и бубнила: Господи, сохрани моего воина силою Честного и Животворящего Креста Твоего под кровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, меча, огня, от смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради его от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, зол, несчастий, предательства и плена.
Не хочу обижать Иисуса, но чудо моего спасения я бы записал всё-таки на счёт Бенджамина Франклина, чей портрет нарисован на стодолларовых купюрах. Вот где сила чудотворная! Из полевой лечебки меня мигом перекинули в Подольск. Три недели пролежал в психиатрии и был комиссован. Категория «В» ограничено годен, статья — 18Б. Всем спасибо!
Да, и ещё: Кулемекова похоронили на Новодевичьем с воинскими почестями. Посмертно наградили звездой героя. Проводившая расследование комиссия установила, что авиационное происшествие произошло в результате «несимметричной потери несущих свойств крыла самолёта на этапе выполнения посадки».
***
Я ненавижу шум. Я не люблю красных яблок. Больше всего на свете я боюсь, что у меня будут дети. Что у нас родится сын.
Катька никогда не видела своего отца, знала только имя – Иван. Екатерина Иванна – простовато, но ничего. Ивановна – так получше. У нас в Черкизовской главную ординаторшу зовут Валентина Викентьевна – во как! Катька выросла без отца. Понятно, факт этот не прошёл бесследно. Теперь вот и мне приходится отдуваться за Ивана тоже.
Я рос с отцом. Он был майором, вышел в отставку и через месяц умер от сердечного приступа прямо в ванне. Думаю, его сердце не вынесло разлуки с армией. Иногда я думаю, проживи отец подольше, он бы смог предупредить меня, что армейская служба запросто может привести тебя в Малешки. Что рано или поздно ты окажешься там.
Когда Катька сообщила, что беременна, я встал на колени и начал молить её, чтобы она родила девочку. Катька рассмеялась и сказала, что она постарается. Сильно постарается.
Вермонт, октябрь, 2023 ©



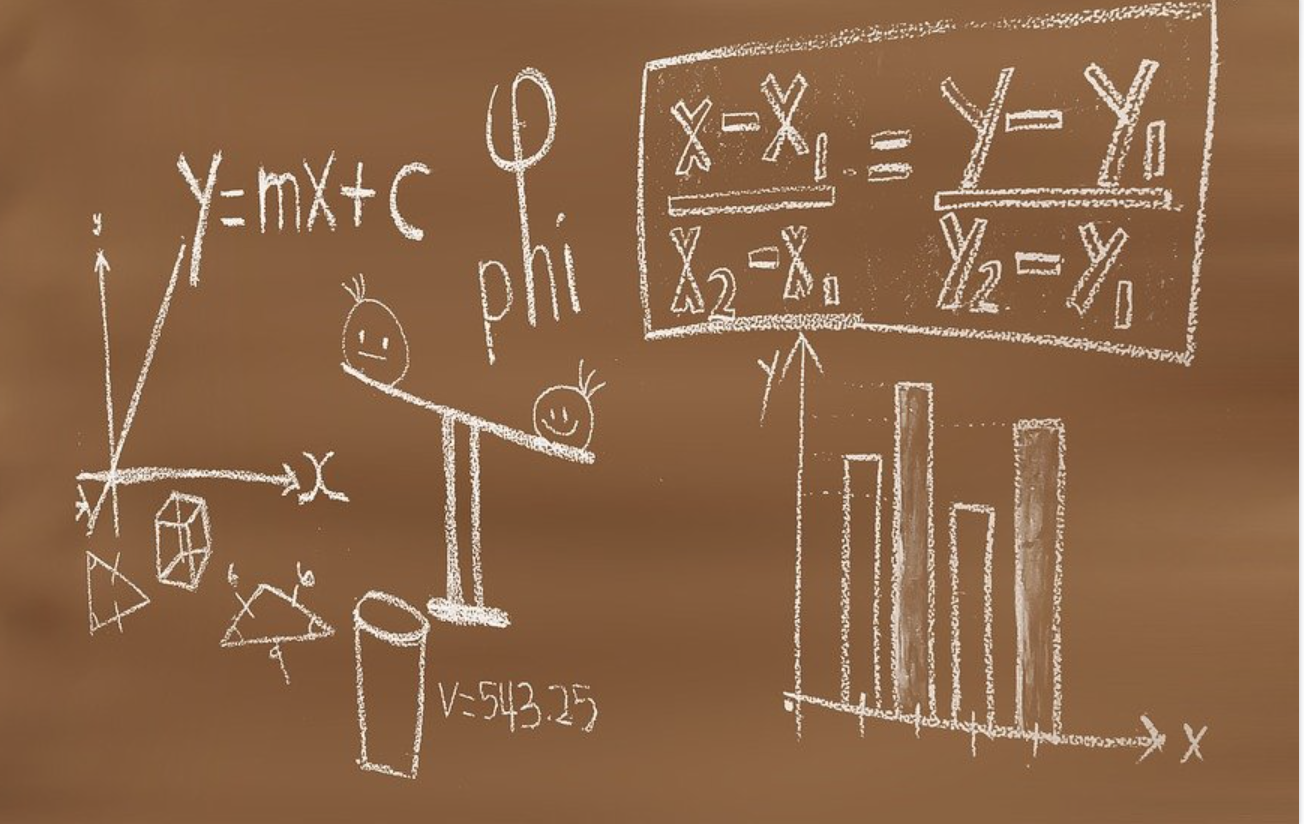


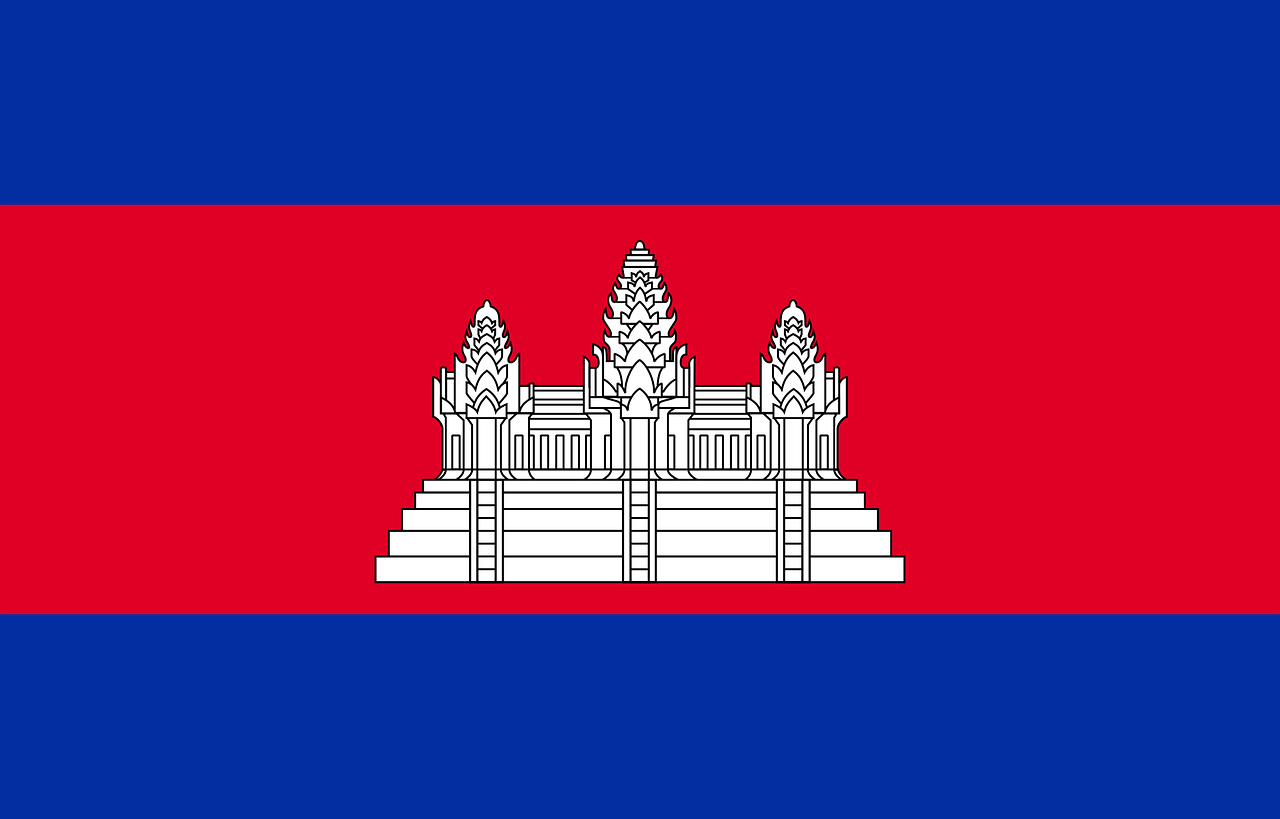










Vista Bella — на смеси английского с латынью — Прекрасная Перспектива. Радуйтесь! Вы живете в одно время с классиком русской литературы. Страшная правда рассказа о тех людях, которым посчастливилось родиться в России. Скорее, это рассказ о нелюдях, которые родились и выросли в стране, где просто стыдно обращаться к Богу. Но они этого не понимают. Сравнить их со стаей собак — значит обидеть четвероногих. Как можно увидеть такое и не свихнуться? Герой как раз почти потерял разум. Ему сказочно повезло — он стал инвалидом и его теперь не пошлют в армию исполнять приказ крошки Цахеса: умереть за то, чтобы эта вонючка еще шесть или двенадцать лет умервщляла одну из самых прекрасных стран на планете. В израненном мозгу обычного московского парня фобия воплотилась в неприязнь к красным яблокам. У него однако прекрасная перспектива — он обладатель пачки в 30000 долларов. Дай ему, Боже, использовать их во благо, дай ему вкусить хлеб и избавь его от лукавого. Симпатичный парень.
Великолепно!
Почерк большого мастера слова.
Спасибо за публикацию.
Великолепно! Валерий — талантливый не только писатель, но и потрясающий хужожник
Хорошо написано