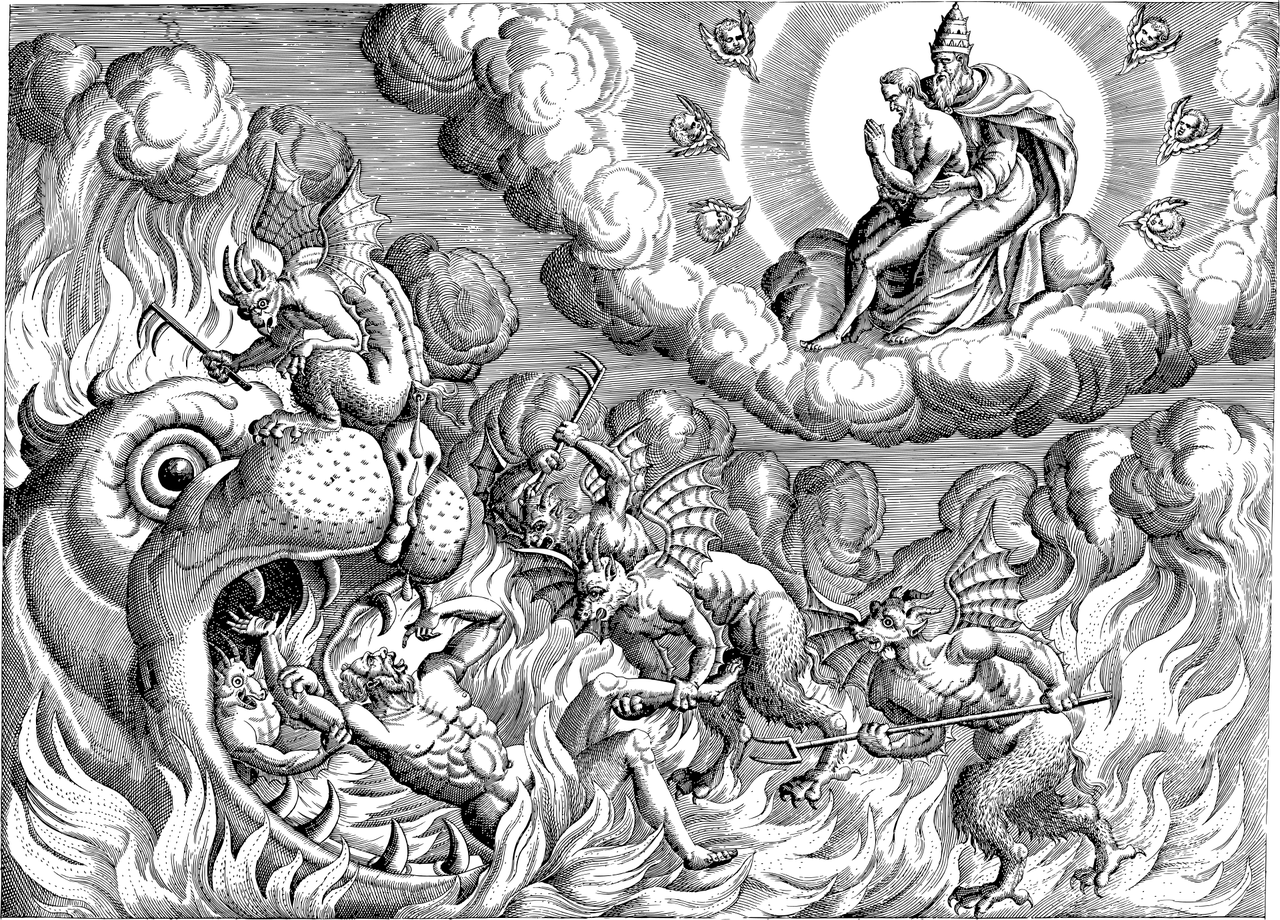ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Очнулась от духоты и темноты. Ни вздохнуть, ни пошевелиться.
— Мама! — позвала Соня.
Крика не получилось, только придушенный хрип. С большим усилием Соня рванулась — может, где есть просвет?! Просвета не было. Мутилось в голове. Сейчас она задохнётся. Сейчас она снова потеряет сознание. Ещё мгновение…
Именно в это мгновение тяжесть с неё сорвали.
Первое, что увидела: дым, закрывший небо и всё вокруг. Дым залепил нос, рот, ел глаза.
— Жива?! — услышала Соня грубый голос. И в тот же миг её рывком поставили на ноги. Но она пошатнулась и упала снова. Упала на то, что минуту назад давило её тяжестью. Упала и… коснулась ледяного лица. Это был дедушка.
— Вот кому ты обязана жизнью. — Голос оглушал. — Киселёв Игнат Всеволодович, 1878 года рождения. Тебя закрыл своим телом. Так-то. Грузи его туда! — крикнул кому-то.
Соня не видела говорившего, он был очень высок, а дым застилал глаза. Вместе с именем старика в Соню вошли грубая ругань, стоны, плач и треск горящих предметов ― так когда-то стреляли поленья маминого костра.
— Мама! — крикнула Соня. — Тут моя мама!
— Может, и есть тут твоя мама, только как разберёшь, кто здесь кто? Месиво. Ты хоть одежду помнишь? — Соню снова поставили на ноги, к ней склонилось лицо. Точно пеплом посыпанное, в саже и ожогах, влажное от крупы, падающей сверху. Человек, говоривший грубым голосом, вовсе не злой. — Идём! Будешь искать свою маму. — Он взял Соню за руку.
Между тем мужчины погрузили на носилки дедушку. Соня вырвала руку, подбежала к старику, стала гладить его лицо. Почему дедушка такой холодный?!
— Дедушка, открой глаза! — попросила Соня. — Я хочу жить с тобой и с мамой, слышишь? Дедушка, встань! — Соня тормошила дедушку, не понимая, почему он не просыпается.
— Уносите быстрее! — Человек поволок Соню прочь.
Соня упиралась, оглядывалась, но мужчина был сильнее неё.
Дым перед Соней рассеялся, и прежде всего остального она увидела костёр. Но этот костёр совсем не походил на мамины костры, он устремлялся не вверх, к небу, усеянному звёздами, а разъезжался вширь. Горели стенки вагонов. И то, что внутри вагонов, горело. Чёрный дым валил из вагонов вместе с огнём. Про этот огонь нельзя сказать, как про костёр: «оранжевый», «красивый». От него ползут мурашки по телу, как от огня, сжигавшего разбомблённый дом, от него болит кожа на голове, точно выдрали все волосы сразу. Этот огонь не пахнет огурцами и смолой. Едкий, душный запах забивает нос болью. Соня разинула рот, чтобы вздохнуть, и не смогла: запах заткнул нос и рот.
Только теперь, на чёрно-рыжем фоне огня, увидела Соня обломки уже сгоревших вагонов, их дотлевающие, обугленные стены, стелющееся по земле неровное пламя, не желающее угасать, и лежащих всюду людей… Уткнувшаяся лицом в землю женщина, в разорванной зелёной юбке, в голубых штанах и коричневых, в резинку, чулках, старуха с развороченным животом… маленькая ножка в красной брючине с коричневым ботинком. И на всём кровь.
Соня вырвала руку из руки крепко держащего её человека и рывком остановилась. Она никак не могла вздохнуть. Не тогда, когда валился дом на Патриарших прудах, не тогда, когда уходил на фронт Родя, война началась для Сони сейчас — в жадном, прожорливом огне, в чёрном дыме, в запахе, от которого тошнит и от которого не вздохнуть. Лишь сейчас Соня осознала, что и уткнувшаяся в землю женщина, и дедушка, и ребёнок, у которого оторвало ножку, умерли. Насовсем.
От неожиданности спасший её человек проскочил вперёд, но тут же вернулся. Он, видимо, понял, что с ней, потому что не закричал, не потребовал, чтобы она шла дальше, взял на руки.
Это, такое естественное для неё, состояние — лежать на руках сильного мужчины, сейчас оказалось враждебным, она вырвалась и соскользнула на землю. Подошла к старухе с развороченным животом. Очень голубые, стеклянные глаза. Холод от земли. Холод от неба. Холод от старухи.
А что если и мама… как эта старуха, как дедушка?
Нет, нет!
А вдруг мама осталась внутри полыхающего вагона, и это она горит? Ни крикнуть «мама!», ни выразить словами то, что она чувствует сейчас, Соня не могла.
Мужчина снова поднял её на руки, прижал к себе, указал на женщину, лежащую боком:
— Это не мама?
Дым теперь не мешал совсем, они вышли из-под его завесы, но противный запах его кружил голову, въедался в нос, вызывал рвоту, но огонь, плещущий искрами, злой, разлучивший с мамой, ослеплял, мучил глаза — Соня сожмурилась, закрыла глаза ладонями, а всё равно спрятаться от него не смогла.
— Не эта? — Мужчина указал на женщину, у которой вместо лица — кровавое месиво, а вокруг золотые волосы.
Ни крика, ни слов, ни горя не было в Соне — только страх. Едучий, он влез во все клетки и лишил возможности хоть что-нибудь понимать.
— Григорий Аверьянович, скорее, командир зовёт!
Григорий Аверьянович поставил Соню на землю.
— Стой здесь. Через десять минут приду за тобой. Никуда не уходи, слышишь?
Она слышала. Только кивнуть или сказать что-либо не могла.
Наверное, не устояла бы на ногах, если бы не увидела в упор глядящие на неё глаза. Знакомые. Очень знакомые.
Петя Козырев?!
Она так обрадовалась, что явились силы, — кинулась к Пете. Не добежала, остановилась как вкопанная — Петя держал в руках непонятный, залитый кровью предмет.
— Мама! — сказал Петя строго.
В этот момент из-под груды тел, ещё не разобранных, раздался едва слышный детский плач, беспомощный, слабый. Петя пошёл на него, Соня — следом.
С посиневшего лица ребёнка лет трёх смотрят на них с Петей ярко-голубые глаза, светлые волосы вылезли из-под шапки.
Петя осторожно положил мамину голову на землю.
Мертвецы — тяжёлые, но Петя с Соней видят только живого мальчика, которого нужно освободить, и, надрываясь, стаскивают с него мертвецов.
Мальчик, как только очутился на свободе, заплакал громко, навзрыд, тряся нижней губой и дрожа всем телом. Соня подхватила его на руки и крепко прижала к себе, как только что прижимал её Григорий Аверьянович. Впервые в жизни не её защищали, а защищала она. И острое чувство жалости, желание собой закрыть кого-то от страха и смерти прогнали собственный страх.
— Не плачь, — сказала она мальчику, как когда-то, бесконечно давно, в другой жизни, говорили ей Родя и мама. — Успокойся, я с тобой. Скажи лучше, как тебя зовут?
Мальчик зашевелил губами, но ни слова не смог произнести. Внезапно он с неожиданной силой вырвался из её рук, упал на землю, вскочил и, переваливаясь на кривых ножках, заковылял к мертвецам. Сразу подошёл к худенькой маленькой женщине, очень молодой, лет двадцати, не больше, лёг рядом с ней, обнял её за шею. Пытался выговорить что-то и не мог: дрожал губой, трясся мелкой дрожью.
— Это его мама, — сказал Петя и сел на землю.
Мимо них проходили люди. Одни брели как спящие, никого и ничего не видя. Другие подходили к каждому лежащему и сидящему человеку, заглядывали в лица, у мертвецов без лиц рассматривали одежду. «Мама!», «Оля!», «Стасик!»… — зов вспыхивал и гас мгновенно, будто его никогда не было, будто он только послышался. И тут же — новый: «Ната!», «Мама!». Чаще всех слов звучало — «мама!».
Кроме мечущихся, потерянных людей, ходили взад и вперёд деловые мужчины, в форме и без формы. Освобождали пути от дотлевающих вагонов, выправляли рельсы, сцепляли друг с другом не тронутые огнём вагоны, отправляли на грузовиках раненых, складывали мертвецов в одно место, рядами, собирали детей, не нашедших родителей.
Соня и Петя, внезапно соединённые с маленьким дрожащим мальчиком и друг с другом, были заняты лишь тем, чтобы не разлучиться. С трудом оторвав мальчика от мамы, Соня снова взяла его на руки.
— Мама спит, видишь? Ты пойдёшь со мной. Не дрожи же ты так! — В зимнем пальто мальчик был тяжёлый, Соня боялась уронить его. И боялась поставить на землю — опять он побежит к матери. — Мы найдём мою маму, слышишь? Ты станешь моим братиком. У меня теперь будет три брата: Родя, Петя и ты. Ты не знаешь, какая мама добрая, она тебя не бросит. Петя, встань. Пойдём же! — Но уверенности в том, что она найдёт маму, не было, и эта неуверенность прозвучала.
Тошнотворно и сладко пахнет дым. С неба мокрой крупой сеется серый снег.
Вначале, как только очнулась, она была убеждена, мама здесь, близко, и тут же найдётся, лишь стоит громко, во весь голое, позвать её. Но время шло — сгущались сумерки, а мама не откликалась. Да и звать незачем — если бы мама была жива, она давно нашла бы Соню! Это простая мысль усадила её на землю вместе с мальчиком — значит, мама не жива. Где-нибудь, в одной из куч мертвецов, вот так же лежит, и кто-то проходит мимо равнодушно, не зная, что это её мама. От мальчика к Соне перешла дрожь. Соня хотела всё это сказать Пете и не могла. До сих пор Соня не чувствовала холода, а теперь холод, идущий от земли, проник к телу, стянул кожу.
Если бы мама была жива…
Значит, не жива.
А может, ранена, не может встать и ждёт, что Соня ей поможет. Или мёртвые придавили её так, как придавили мальчика, а помощь задержалась?
Соня неуклюже, преодолевая сопротивление собственного тела и противную мелкую дрожь, стала поднимать мальчика с земли, не смогла, поставила его на ноги, взяла за руку.
— Петя, вставай, пойдём. Мы должны найти мою маму. Я прошу…
Они пошли вдоль рельсов. На путях, на насыпях, с одной и другой стороны, сидели, лежали люди, равнодушные, покорные — казалось, для них жизнь остановилась. Среди них мамы не было.
Мальчик не шёл, ковылял, и они продвигались медленно.
— Вот ты где! — подошёл Григорий Аверьянович. — Идём. Сейчас начнём грузить детей. Нужно же довезти вас поскорее до тепла! А это кто?
Соня не поняла, что значит — «грузить», не поняла, куда должна идти, но доверчиво двинулась за Григорием Аверьяновичем.
— Мой брат, — ответила.
— Что это у тебя? — вдруг с ужасом воскликнул Григорий Аверьянович, резко остановился, изумлённо уставился на невозмутимого Петю. — Ты, ты… понимаешь? — У Григория Аверьяновича задрожал подбородок. — Как же это могло произойти? Осколком?! Балкой?!
— У него папа на фронте погиб совсем, — вмешалась Соня, не понимая, почему так испугался Григорий Аверьянович. — Это его мама.
А Григорий Аверьянович присел перед Петей на корточки.
— Маме надо спать, понимаешь? — заговорил ласково. — Маму нужно уложить, чтобы ей было спокойно. Ты ей мешаешь. Ей нужно укрыться…
— Я укрою её, — перебил Петя. — Приеду домой и укрою одеялом. Ей и не будет холодно. Я её хорошо укрою.
— Ты не понял. Она теперь всегда будет спать. Её укрыть может только земля.
— Не дам в землю, — строго сказал Петя. — С кем я останусь?
— Мамы нет, — терпеливо объяснял Григорий Аверьянович. — Понимаешь? Ты останешься с этой девочкой. Вы ведь знакомы? Вот вас уже двое. И будете вы как брат и сестра.
— Как же мамы нет, когда вот она?!
— Это уже не мама, — убеждал Григорий Аверьянович Петю. Но Петя не понимал. Тогда Григорий Аверьянович сказал совсем непонятное: — А это не твоя мама! Похожа, а не твоя. Твоя мама в госпитале, я сам её отправлял. Видишь, это деревня — Козы, здесь большой колхоз, он выделил грузовик, и мы сразу отправили всех раненых…
— И мою маму отправили? — спросила Соня.
Григорий Аверьянович кивнул, не посмотрев на неё, он попытался высвободить из Петиных рук голову, но Петя не дал.
— У моей мамы такие серёжки!
— Ты что, думаешь, только у твоей мамы такие серёжки?! — В голосе Григория Аверьяновича прозвучало раздражение, он спешил.
— Отвезите меня тоже в госпиталь, — встряла опять Соня. — Я там буду ждать, когда маму вылечат.
— Как тебя зовут? — спросил Григорий Аверьянович у Пети. Он встал. — Вот видишь. А сына этой женщины звали Коля. Я отправил женщину с такими же серёжками в госпиталь, вот её сына звали Петя.
Надежда озарила Петино лицо, прежним румянцем зарозовели щеки, Петя расстался наконец со своей ношей.
— Вот и молодец! — обрадовался Григорий Аверьянович. — Вы, дети, ни на шаг отсюда, я сейчас.
Как только он зашагал прочь, Петя сел на землю.
— Я хочу к маме. Я поеду только в госпиталь.
Тут же горько заплакал мальчик. Он стоял очень тихо, пока Григорий Аверьянович разговаривал с Петей, а сейчас заплакал, снова попытался что-то выговорить и не смог.
Холод судорогой свёл руки-ноги, сковал даже живот. Соня решила, что и мальчик замёрз, онемевшими руками стала растирать ему спину и плечи. Так растирал её папа, и всегда становилось тепло. Но мальчик продолжал плакать, словно не согрелся.
Григорий Аверьянович вернулся, поднял Петю с земли, поставил на ноги.
— Сейчас осень, почти зима, нетрудно простыть. Идёмте скорее, через час я должен ликвидировать катастрофу. Главное — отправить вас.
— Куда? — плохо слушающимися губами спросила Соня, она буквально волокла маленького мальчика.
— Быстрее! — торопил их Григорий Аверьянович. Он подхватил на руки малыша и зашагал так, что Пете с Соней пришлось бежать.
Зуб на зуб у Сони не попадал. Звала про себя «Мама!», несмотря на спешку, останавливалась, разглядывала всех женщин.
Григорий Аверьянович тоже останавливался, когда останавливалась Соня. Мальчика крепко прижимал к себе, и мальчик скоро успокоился.
Наконец они перестали бежать.
Детей было много, всех возрастов. Их записывала в тетрадь очень красивая женщина с глазами как будто нарисованными, с красными губами бантиком.
— Сколько лет? — спросила она у маленькой девочки таким режущим, металлическим голосом, что у Сони засвербело в голове, и женщина сразу перестала казаться красивой — злые губы у неё, злые щёки и злые глаза.
— Я не хочу к ней, — сказала Соня. — Уйдём отсюда, — умоляюще зашептала она Григорию Аверьяновичу.
А тот не услышал — он пытался оторвать от себя вцепившегося в его шею мальчика. Наконец удалось поставить его на землю, но теперь мальчик вцепился в ногу Григория Аверьяновича и горько заплакал.
Соня тоже припала к Григорию Аверьяновичу и тоже заплакала.
— Возьмите нас к себе, — попросила она. — Мы будем слушаться и делать всё, что вы скажете.
Петя стоял в стороне, втянув голову в плечи, прижав руки к груди.
— Куда, куда я вас возьму? У меня здесь нет дома, у меня здесь койка в общежитии, я сегодня здесь, а завтра в другом месте. Я скоро на фронт ухожу. Успокойтесь, успокойтесь, — смятённо повторял Григорий Аверьянович. — Всё будет хорошо, вот увидите. Найдутся родители. Ну, будьте молодцами. Я не могу взять вас к себе, у меня нет дома, — повторял он.
Женщина подошла к ним, вперила в Петю ледяной взгляд.
— Имя? Фамилия? Возраст? Имена-отчества родителей?
Петя ответил.
— Имя? Фамилия? Возраст? Имена-отчества родителей? —. спросила женщина у Сони.
Её голос, неподвижное лицо с ярко накрашенными губами не нравились Соне, она щекой ощущала жёсткое пальто Григория Аверьяновича и молчала.
— Как же мы найдём твою маму, если не будем знать её имени? — склонился к Соне Григорий Аверьянович. И обернулся к женщине. — Неужели нельзя помягче? — сказал тихо, внятно. — Горе у детей, понимать надо.
— Их много, а я одна, — громко отвечала женщина. — У всех горе. У меня тоже горе. Вы же не жалеете меня!
— Они — маленькие, — сказал Григорий Аверьянович. — Им помощь нужна.
В этот момент резко затормозил около них грузовик, и Соня поняла: сейчас произойдёт что-то непоправимое, что-то страшное, их с Петей и мальчиком погрузят и увезут от поезда, от мамы, от дедушки, от Григория Аверьяновича. Соня изо всех сил вцепилась в него.
— Я хочу искать маму! — воскликнула она.
— Имя? Фамилия? — снова спросила женщина у Сони, сильной рукой отдёргивая её от Григория Аверьяновича.
А тот наконец оторвал от себя малыша.
— Его в другую группу, к детсадовцам, — резко приказала женщина водителю грузовика, спрыгнувшему с подножки.
— Это её брат, — строго сказал Григорий Аверьянович.
— Имя?
— Я не знаю, — пролепетала Соня, но тут же испугалась — сейчас малыша отнимут у неё и поволокут в другую машину. — Стасик! — воскликнула она. — Стасик!
Мальчик разрывался от крика, пытался ухватиться за Григория Аверьяновича, но тот загораживался от него руками.
Вдруг Петя со всех ног пустился бежать прочь.
— Петя! — крикнула Соня. А Григорий Аверьянович бросился за ним. Догнал, привёл обратно.
— Всё равно уйду, — сказал Петя.
И Соня сказала:
— Я тоже не хочу здесь. И имя не скажу.
Тогда и её, и Стасика записал сам Григорий Аверьянович. Он снова взял малыша на руки, заторопил женщину.
— Нужно ехать. Скорее ехать. Ночь скоро.
Громадный, толстый, краснощёкий, очень довольный чем-то водитель легко поднимал человека, подсаживал в кузов. Дети плакали, брыкались, звали мам. Но их грузили насильно. А как только машина заполнилась, защёлкнулся кузов. И вот остался один Стасик — на руках у Григория Аверьяновича.
— Соня! — позвал Григорий Аверьянович. — Возьми его к себе на колени. Он, наверное, решил, что я — папа. Обещаю тебе, если твоя мама в госпитале, я передам ей адрес детского дома. Ты жди маму. — Осторожно, нежно оторвал от себя мальчика, передал Соне и быстро зашагал прочь, чтобы не слышать жалкого плача.
— Стасик, — зашептала Соня, — мы вместе. Мы всегда будем вместе. Ты, я и Петя. А потом мы найдём маму с папой. Родя вернётся с фронта, он будет с тобой играть. Мы будем вместе играть, слышишь?
2
Ужинали поздно. Пахло переваренной капустой, хотя капусты на ужин не дали. Дали манную кашу. Слипались глаза. Соня плохо понимала, что происходит вокруг, только запах капусты, тошнотворный, мучающий, влезал в нос. Манная каша быстро остыла. А Соня терпеть не может холодной еды. «В другой раз сначала объем ободки, а потом серёдку!» — решила она. Каша — жидкая, воды больше, чем крупы, а состоит вся из комков. Соня честно пытается есть, но стоит комку подойти к горлу, как поднимается рвота, и ничего с собой поделать Соня не может. Отставила кашу. Крашеная женщина стала кричать «скорее!», позвала спать.
Ночью проснулась от страха.
Полыхал огонь, не мамин, до неба, а кургузый, грязный, расползающийся по земле горячими языками, огонь наступал на Соню, приближался — сейчас вопьётся в неё своими многочисленными жалами и сожжёт. Она дрожит от холода, хочет согреться, но не этим злым, вонючим огнём. Холод идёт изнутри, из пустого живота. Она хочет есть. Как же она хочет есть!
Всё одновременно — стремительно приближающийся к ней огонь, холод и голод требуют от неё каких-то действий, а она не может встать, даже глаз открыть не может, чтобы перестать видеть огонь. Из огня выплывают кушанья, которые готовила мама: пельмени, котлеты, тушёная курица, пирожки, картофельные оладьи, сырники, лепёшки. Котлеты у мамы получаются пышные, и папа любит повторять: «Они у тебя дышат!» А лепёшки у мамы золотистые. Сейчас лепёшка, самая большая и самая красивая, подплывает к Соне, сейчас попадёт в рот.
Но что это? Это не лепёшка. Это… мамино лицо с закрытыми глазами.
То была голова не Петиной — её мамы!
Мама — мёртвая. Мамы нет. И её нет. Она тоже мёртвая.
Соня сорвалась с кровати, расплёскивая огонь, всё-таки охвативший её, подбежала к окну, чтобы увидеть что-нибудь другое, а не огонь и не мёртвую маму. Вместо огня — чернота.
Деревья голы, с неподвижными уродливыми ветками, с длинными и короткими пальцами-прутьями, они тоже мёртвые, исчеркали небо, как исчёркивает лист бумаги ребёнок, не умеющий рисовать. Деревья освещены белым светом снега, нападавшего за этот день, свет тоже мёртвый.
Кругом всё мёртвое. Одна смерть.
Соня кинулась в коридор, брезжащий светом.
Холодный пол жжёт ступни. И тело покрылось гусиной кожей, как панцирем. Соня хочет позвать маму, а голоса нет. Хочет заплакать, а слёз нет. Есть только оторванная ножка в красной брючине с коричневым башмачком, голубое трико и зелёная юбка женщины, навсегда уткнувшейся в землю, старуха с развороченным животом, дедушка.
У всех стеклянные глаза. Слепые.
И у мамы.
Война — это сначала огонь, а потом стеклянные глаза. Война — это холод, идущий от земли и неба. И острое желание есть. Война — это исчезнувшая мама. Война — это одна в целом мире. Вот почему папа говорил: «Если прорвётесь». Прорваться — это значило не попасть под бомбёжку, это значило уехать от войны, а не остаться в ней. Прорваться — это значило выжить.
— Ты куда?
Соня попадает в руки старой нянечки. У нянечки коричневая сетка морщин вместо лица. У нянечки заскорузлые руки с синими верёвками жил. Но нянечка смотрит на неё плачущими глазами. Живыми. В белых точечках на голубом цвете. Нянечка укутывает Соню в тулуп, кладёт рядом с собой.
Лежанка — твёрдая, узкая. Но Соне не тесно. Соня буквально втискивается в нянечку. А когда первое горячее тепло от нянечки и тулупа проникает в Соню, Соня начинает дрожать. Дрожит, освобождаясь от холода.
А смерть не уходит вместе с холодом, смерть растопырила в ней острые железки и вонзается во все внутренности сразу. И не даёт уснуть.
Никак не кончится этот день! Он ещё раз повторяется.
Снова грузовик. Она сидит у самого борта, и ей видно, как убегает дорога, с ямами и взгорками. Грузовик подпрыгивает, рвётся вперёд, тормозит, и все ребята, и она вместе со Стасиком, валятся то в одну, то в другую сторону. Стасик плачет. Выворачивается из её рук, изламывается тельцем. Соня с трудом удерживает его. Штаны у Стасика мокрые. А переодеть не во что. Стасику холодно. Соня пытается укрыть его полой своего пальто, но у неё ничего не получается. У Стасика дрожит нижняя губа. Он разучился говорить.
— Слушай, Стасик, сказку. — Торопясь, сначала громко, потом, когда Стасик немного успокаивается, тише и тише, Соня рассказывает ему про уточку, которая чуть не замёрзла в пруду, про доброго старичка, который уточку взял к себе на зиму.
Стасик перестаёт плакать, обнимает Соню и затихает.
Грузовик трясёт. Соня подпрыгивает вместе со всеми, но крепко прижимает к себе Стасика, старается оберечь его от толчков, чтобы он поспал хоть немного.
Наконец их привозят. Ярко освещено электричеством крыльцо. Табличка с синими буквами — «Детский дом».
— Старших выгружайте, младших повезём в Крокотово, — слышит Соня. Не сразу доходит до неё, что сейчас Стасика у неё отнимут. А когда доходит, она остаётся на месте. Мимо неё пробираются ребята к краю грузовика. Кто может, спрыгивает сам, кто не может, попадает в руки Горбуна — Горбун подхватывает, опускает на землю.
— Я ― Жанна Кирилловна, — пронзительно кричит тётка, которая всех записывала. — Я — ваша воспитательница. Слушать с первого слова. Не смейте отходить от подъезда, чтобы я всех видела, я должна сосчитать вас.
Царит только её голос. Он стегает Соню, как крапива, Соня вжимается в борт грузовика. Может, не увидят её? Она поедет дальше, в Крокотово, вместе со Стасиком. Только спящий на коленях Стасик существует для неё сейчас в целом мире.
— Для тебя особое приглашение? — кричит на неё шофёр. Она его, краснощёкого, там заметила, около мёртвых. Тогда он, забрасывая их в грузовик, радовался, а теперь злится. — Давай сюда. Мальчишку оставь на лавке, он поедет дальше.
Стасик ещё спит, он ещё не знает, что его собираются отнять у Сони. Он ещё не плачет захлёбывающимся плачем, а этот плач уже звучит в её ушах.
— Нет, я поеду с ним, — говорит Соня. — Это мой брат! — Голос у неё рвётся, ей страшно собственной смелости.
— Я тебе покажу «брат»! — Жанна Кирилловна подходит к грузовику. — А ну слазь, кому говорю? Куда мы его денем, ты подумала? У нас школьники. Ему нужны другие условия, другой режим.
Если бы у Сони был сейчас голос, она сказала бы! Если бы силы были, она показала бы тётке!
Но к ней, со своей взрослой силой, лезет шофёр. Щёлки-глазки его стреляют злостью, он рывком выхватывает у Сони Стасика.
— Из-за тебя валандайся тут! Из-за тебя домой не попадёшь до завтра!
Соня так впилась в мальчика, что отрывается от скамьи вместе с ним.
Стасик проснулся. Ничего не понимающими глазками несколько мгновений смотрит на шофёра, на Соню и вдруг сморщивается как старичок. Он не плачет, на плач у него нет сил, он верещит, как птичка, — жалобно и слабо. Соня крепко держит его, и он обхватывает Соню за шею.
— Не дам! — кричит Соня. Откуда голос взялся? — Не дам! Не дам!
Но у неё вырывают Стасика. Тогда она кулаками барабанит по животу шофёра, продолжая исступлённо кричать.
Её крик обрывает Горбун, он подскакивает к грузовику, задирает голову, смотрит снизу вверх на шофёра, приказывает:
— Отдай ребёнка! — У него, как у папы, когда тот недоволен, дёргается бровь, только его бровь, лохматая и рыжая, похожа на мочалку. — Нешто ты немец? Дети ведь… Нешто так можно? У меня поживёт. Нешто у тебя нет сердца? Нешто у тебя нет жалости? Человеческий детёныш. Сирота. У тебя нет детей? А если с твоим так? Немец так делает. Совсем совесть потеряли люди! Эх, Лидию Петровну, как назло, вызвали в райком. Была бы она…
Шофёр молча протягивает Горбуну Стасика.
— Не бойся, дочка, не бойся, с тобой останется, — мелко кивает Горбун Соне, прижимает Стасика к себе, как прижимал Григорий Аверьянович. — Брата с сестрой разлучать! Мало им горя — родителей потеряли!
День повторяется снова и снова.
Прижавшись к нянечке, Соня дрожит. Сердитый шофёр, злая Жанна Кирилловна — война. И холод — война. И манная каша с комками — война. Зачем мальчишки в детском саду каждый день играли в войну?
— Что же ты никак не угреешься? А вот я тебя, — нянечка забирается к Соне под тулуп и обеими руками гладит её спину, и плечи, и ноги растирает, как папа. — Сичас, си-час полегчает. Я знаю такое, встанет поперёк груди и ни туды и ни сюды. Сичас. — Она гладит Сонину грудь и шею. — Сичас угреешься, сичас. Ты усни, усни, — шепчет нянечка. — Ты не думай про то. Было да сплыло, не будет больше. К нам немец не придёт, мы далеко. И твою Москву отстоим. Не такие мы люди, чтобы немцу отдать Москву. Усни, дочка. Со сном уйдёт твоя беда.
Запах горчицы, снега, голос и горячее тепло от нянечки прогоняют прочь этот день. Тухнут один за другим огни пожаров. Пропадают одна за другой картины горящих тюков и вагонов… Смолкает постепенно плач Стасика…
3
Горбуна зовут дядя Кузьма. У него умерла жена, а сыновья воюют. Жениться они не успели, а потому дядя Кузьма остался совсем один.
— Не бойся, дочка, — унося Стасика к себе, сказал дядя Кузьма. — Будет сыт, будет одет. А ты после уроков целый день будешь видеть его. Нешто далеко — спуститься во двор? Мы с ним или чистим двор, или топим вам печки. Так, дочка? То-то же!
А наутро Горбун сам пришёл за Соней, и Жанна Кирилловна разрешила ей идти, не накричала.
— Ты, дочка, того, не плачь, — пряча от неё глаза, сказал дядя Кузьма, когда она вышла с ним на улицу. — Плохо с твоим братом, мается. Изламывается весь, извивается. Видно, болит у него голова. Врач назвал «менингит». Откуда берётся такая напасть? Или ударился обо что? Или простуда? Разве врач поймёт? Врач сама развела руками — менингит, и всё тут. Говорит, на знаю, какая причина. Да, дела совсем плохие. Видать, недолго маяться ему. Ты иди сиди с ним, а мне надо стопить печки.
В комнате дяди Кузьмы мало мебели: стол, четыре стула, три кровати. Стасик лежал около печки. Увидев Соню, заулыбался, протянул к ней руки. Но ненадолго отпустила его боль — тут же заметался по подушке, стал тянуть волосы, тереть голову, умоляюще глядел на неё.
— Пои его, дочка, побольше. Я скоро приду. Подброшу уголька и приду. Врач сказала: побольше пить надо ему.
Соня гладила ему голову, поила его, носила на руках, пела песни, рассказывала сказки. Боль то стихала, то являлась снова. Когда боль уходила, Стасик улыбался и пытался что-то сказать. Видимо, говорить он умел, это из-за мертвецов, которые придавили его, разучился. Соня качала Стасика, как свою куклу, и приговаривала:
— Ты выздоровеешь! Поедем домой. Я буду тебе книжки читать! Выздоровеешь! — твердила она упрямо.
В одну из минут просветления, когда Стасик снова зашевелил губами, Соня прислонилась щекой к его горячей щеке.
— Ты уже опять умеешь говорить, скажи, ну?! Как тебя зовут? Имя твоё настоящее?!
— Гришуня. — А ещё через несколько секунд добавил. — Королёв. Мама — Катя. Папа — Коля. Командир. — Но целая речь, произнесённая Гришей, отняла у него все силы, он снова заметался, глаза покрылись плёнкой, губы полуоткрылись, пальцы ухватились за волосы, потянули их, словно хотели сорвать с головы.
Соня снова гладила Гришу, носила его на руках, но он в сознание больше не пришёл.
Про неё забыли. Врач, дядя Кузьма сидели по очереди около беспрестанно стонущего Гришуни, делали ему уколы, поили его водой. Она, сжавшись, притаилась в углу комнаты, на стуле. Смотрела издалека на Стасика-Гришуню, на дядю Кузьму, на врачиху в белом халате и шапочке. Лица у врачихи не было, только белый халат и шапочка. Соня ела хлеб, лежащий на столе, картошку в мундире и солёные огурцы, пила воду из ведра, доставая её ковшиком, а засыпала одетая, на свободной кровати. Ночью иногда просыпалась: от стона Гришуни, от хриплого голоса дяди Кузьмы, убаюкивающего мальчика.
Но наступил момент, когда о ней вспомнили.
— Ты, дочка, вот что, иди в свою группу. Нечего тебе… Видишь, мучается парень? Чего смотреть на это? Ты, дочка, должна учиться, не теряй времени. Я к тебе приду, дочка. Поцелуй брата и иди.
Нерешительно Соня подошла к Гришуне, коснулась губами потного горячего лба.
В тот момент не было жалости и боли в ней. Жалость к Гришуне и боль встали поперёк груди, когда она увидела Жанну Кирилловну.
— Наконец явилась. Идём. — Она дёрнула Соню за руку. — Я распределила тебя к старшим. Там тебя приучат к порядку. — Слова Жанны Кирилловны втыкались в уши иголками и в голову втыкались. — Сюда, сюда, — тащила она Соню, больно сдавливая руку. — Вот сюда!
Большая спальня, три больших окна.
Но она спала в первую ночь совсем не здесь! Она не хочет здесь!
— Здесь будешь жить! — усмехнулась Жанна Кирилловна и исчезла.
А как только она исчезла, со всех кроватей, а их Соня насчитала одиннадцать, раздались крики:
— Нечёсаная!
— Неумытая!
— Конопатая!
— Страшила.
Девочки повскакали с кроватей, окружили Соню.
— Смотри-ка, морщится.
— Не ндравимся.
— Небось, привыкла к городским?!
— От мамкиной юбки оторвалась, сразу видать, не привыкла!
Девочки все старше неё, раньше их не видела, ни там, около деревни Козы, где у Пети погибла мама, где лежали груды мертвецов, ни здесь, в детдоме, в первый вечер. Растерянная приёмом, Соня удивлённо оглядывалась, ища защиты. Но защиты не было, все одинаково насмешливо и недружелюбно смотрели на неё, враги они ей, как и Жанна Кирилловна. Соня попятилась к двери — она убежит! Но девочки сжимали кольцо, усиливали боль в груди. Соня сделала единственно возможное — заплакала. Заплакала от жалости к себе, от жалости к Стасику-Гришуне, от жалости к маме. Это вызвало новый прилив насмешек:
— Ишь, какая хрустальная! Слова не скажи.
— Прынцесса!
— Как же… привыкла держаться за мамочкину юбку, а юбки больше нету.
— Теперь, как все, — одинаковая.
— Общественная!
Спас её Петя. Он неожиданно вошёл в палату.
— Соня! Наконец нашёл!
Теперь град насмешек обрушился на них обоих:
— Смотри-ка, и жених объявился.
— Жених и невеста, тили-тили-тесто!
Но между девочками образовалась брешь, и Соня кинулась в неё и в коридор. В одну секунду они с Петей очутилась на лестнице.
— Ты чего? — спрашивал участливо Петя. — Чего они сделали тебе? Они смеялись, да? — Неразговорчивый Петя говорил без остановки, и от его слов стало легче, уже не так кололась боль. — Я тебя ищу два дня, хожу из палаты в палату. Пошёл к Жанне. Жанна сказала, не хватило места среди семилеток, тебя — к старшим, вот я и пришёл. Ты чего? Ну, перестань, а то я тоже…
Соня ещё плакала, навзрыд, захлёбываясь, как Стасик около поезда. Слёзы были первые за время войны. Слёзы были последние за время войны. Вместе с ними уходила жизнь с Родей и родителями дома, в Ермолаевском переулке.
— Я не могу не сказать тебе… я решил убежать. — Как когда-то давно, когда они сидели за одной партой в московской школе, Петины щёки в эту минуту были красными. — Ты пропала, а я тебе держал место, но Вериванна посадила на него воображалу. Я отвернулся и сижу к ней спиной.
Слёзы у Сони высохли. Она не спросила, кто такая Вериванна, кто такая воображала и где Петя держал для неё место. Она воскликнула:
— Я с тобой! Я тоже хочу убежать. Я найду маму и не буду здесь. Идём скорее. Нет, нельзя, — вдруг вспомнила она.
— Что «нельзя»?
— Нельзя мне уйти. Стасик, нет, Гришуня болеет. Он всё за волосы себя тянет, у него болит голова. Дядя Кузьма меня позовёт, когда будет можно. Вот Стасик поправится…
Петя растерянно топтался перед ней.
— Как же я один?
— Подожди немного! — жарко заговорила Соня. — Он поправится, и мы побежим.
Тут на лестницу гурьбой выскочили девочки из её спальни. Увидев их с Петей, они снова стали громко кричать:
— Жених и невеста, тили-тили-тесто!
Кровь хлынула Соне в голову, Соня схватила Петю за руку.
— Идём! Я с. тобой! — И первая кинулась по лестнице вниз.